бесконечно усилившаяся жажда жизни, когда боязно что-то не успеть, не узнать, не сделать.
Вон аллеей парка идет моя соседка Галя. Беленькая, с очень светлыми, как подтаявшие на солнце льдинки, глазами.
Галя работает на телеграфе, учится в десятом класса вечерней школы.
Увидя меня, приветливо улыбается.
— Иди, соседочка, сюда, — зову я, — посиди несколько минут, отдохни…
Она охотно подсаживается. Лицо у нее матовое, глаза усталые. Мне становится жаль ее: такая молодая и так нелегко достается ей жизнь.
— Трудно, Галчонок! — спрашиваю я сочувственно.
— Ничего, — бодрится девушка, — получу аттестат, легче станет…
Вдруг она оживляется:
— Да, Степан Иванович, поздравьте! У меня ж сегодня день рождения. Уже двадцать…
Ах ты, глупенькая, — «уже».
— Степан Иванович, приходите сегодня вечером. Ну, прошу, как папу…
Против таких слов разве устоишь! Ведь знаю: живет одна, угол снимает, родители где-то далеко.
— Только у меня негде отпраздновать, — словно извиняясь говорит она, — так мы пойдем к подружке Люде. Она с мамой живет на нашей улице — через два дома.
Меня берет сомнение. Ну как это я вдруг явлюсь к чужим людям! Но Галя настаивает:
— Нет, это удобно. Правда! Да они вас знают.
Собственно, немного и я их знаю. Вижу иногда из окна хорошенькую Люду в модных платьях и ее маму — молодящуюся женщину лет сорока двух.
— Так в семь. Я за вами зайду. Ладно!
— Ну что с тобой делать — ладно, — сдаюсь я.
Приняли меня радушно. Усадили на диван, альбомы какие-то дали. Я перелистывал их для приличия, а сам приглядывался с любопытством.
Комната большая, светлая, обставлена со вкусом. Ничего лишнего. Мать Люды — Екатерина Игнатьевна — живая, гостеприимная, хлопочет вместе с дочерью у стола. На Екатерине Игнатьевне зеленое, в обтяжку, шелковое платье с короткими рукавами; волосы завиты. Люда невысокого роста, очень изящна: на маленьких стройных ножках домашние туфли на гвоздиках, с одной перепонкой, знаете, «ни шагу назад». Прямые волосы спадают почти до плеч, на лбу челка. Все это девушке, несомненно, идет, но я, сравнивая ее с Галей, думаю о моднице неприязненно.
Через час Люда, извинившись, встает из-за стола. Вскоре она появляется переодетая в серый костюм и, глядя на гостей лучистыми глазами, расправляя на пальцах длинные перчатки, говорит, что увы, она вынуждена покинуть очень приятное общество.
Было нас человек шесть-семь, кое-кто улыбнулся, кто-то намекнул, что, мол, куда нам состязаться, и Люда — легкая, сияющая — ушла, а я снова подумал еще неприязненнее: «Ради подруги не могла отложить свидание. Живет тепличным цветком на мамин счет. А счет, видно, немалый… И эти перчатки нелепые напялила…»
Люда возвратилась за полночь, когда почти все гости разошлись.
Возвратилась веселая, все также излучая глазами ласковый свет, только губы на детски пухлом лице показались мне еще ярче и неприятнее.
Словно восполняя упущенное время, она стала шалить; выпила «штрафной» бокал вина, обчмокала мать, начала показывать Гале новые па, танцуя с ней танго за кавалера.
Потом девочки пошли провожать меня домой.
Луна прокладывала неясные тропы меж оголенных деревьев. Было тихо. Так тихо, что хруст гравия под ногами казался громким.
— Жаль, что с именин ушла, — сказала Люда, — но мне в больницу непременно надо было…
— Почему так поздно! — удивился я, правду сказать, не поверив этой версии.
— Я нянечкой в хирургическом отделении работаю, меня почти на всю смену подменили…
— Нянечкой! — изумленно переспросил я.
— Да, третий год. — Голосок у нее детский, она немного, совсем неутомительно заикается. — А сегодня так расстроилась, — Люда доверчиво обратила ко мне тонкое лицо. — Заглянула в девятую палату… Там один капризный больной лежит… Увидел меня, буркнул соседу: «Фифочка явилась». У меня спрашивает: «Какими духами от вас, барышня, пахнет!» — «Скорее всего хлоркой», — говорю. «А я думал „Красной Москвой“. Что же это вы ее на хлорку променяли!». Чувствую, кровь прилила к моему лицу, еще немного и сорвусь, закричу, что папа погиб на войне не для того, чтобы надо мной издевались, что дважды держала экзамен в мединститут… недобрала по одному баллу… И все равно добьюсь своего… Сколько бы еще раз не пришлось… Заставила себя ответить спокойно: «Променяла и не жалею об этом…»
— Ты напрасно стремишься попасть непременно в наш медицинский институт, — сказала до сих пор молчавшая Галя. — Здесь конкурс больше, чем в других городах, и при твоей серебряной медали…
— Да ты сама посуди! — слегка заикаясь, воскликнула Люда. — Как маму оставить! Она три года на севере по контракту отработала, соскучилась… Конечно, готова отпустить. Да разве можно уезжать!
Мне стало стыдно своих недавних мыслей — как порой все же торопливы бывают наши суждения о людях!
Мы дошли до конца аллеи.
Люда, прощаясь, протянула руку. Ладонь у нее шершавая, огрубелая. Я невольно подумал:. «Для меня сегодня родилась и эта девочка».
И такой она показалась мне славной: с челкой на лбу, с модными перчатками, что мяла в руках…
Строгие глаза
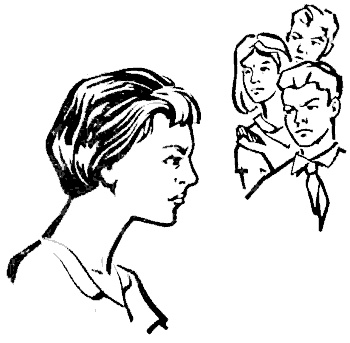
Я сначала удивлялся: чем подчинила себе этот горе-класс преподавательница математики Майя Григорьевна!
Тоненькая, с волосами цвета начищенной меди, в белой шелковой кофточке с короткими рукавами, из-под которых желтеют конопушки на руках, она никак не походила на замужнюю женщину, хотя уже два года была женой секретаря райкома комсомола.
Но чем внимательнее присматривался к Майе Григорьевне, тем яснее мне становилось — она покорила класс своей влюбленностью в школу, бескорыстной заинтересованностью всем, что касалось детей.
Вы, наверно, знаете этот тип учителей, фанатически преданных своей профессии! Они ни о ком другом, кроме учеников, не могут говорить, думать, а кое-кому кажутся даже людьми скучноватыми, ограниченными. Дети же очень быстро улавливают подобную преданность и чаще всего эгоистически принимают ее как должное, само собой разумеющееся.
Как бы то ни было, но седьмой «Д» — буйный, своевольный, характером похожий на необузданного степного конька-подлетку — присмирел в худеньких решительных руках Майи Григорьевны, стал говорить о себе не без гордости, что «Д» — это значит дружный, и он еще покажет, на что способен.
И действительно, он стал лучше всех других классов.
…Когда трагически погиб муж Майи Григорьевны (он на мотоцикле врезался в идущий навстречу грузовик), класс переживал горе вместе со своей учительницей, и, казалось, их душевная связь достигала нерушимом крепости.
И вдруг… Ох, эти вечные «вдруг» в школьной жизни.
Спустя месяц после похорон мужа Майи Григорьевны седьмой «Д» взбеленился. Я употребляю это малолитературное выражение потому, что никаким иным не смогу точнее выразить его возмутительное поведение. Знаете, полный «набор» ученических бесчинств. Здесь и хоровое мычание на уроках безвольного учителя рисования Игната Ивановича, и беготня по партам в перемену, и отказ всем классом

