— Эфраим, сделай и для моей дочери ангела.
— Эфраим, для моего отца ангела.
— Эфраим, для моей матери ангела.
Ну где он для них возьмет столько ангелов? Есть ангелы, избавляющие от зла, ангелы-ходатаи, воители, ангелы восхваляющие, ангел, охраняющий Сарру от Фараона, а ангелов горя и печали нет.
Когда ангелов на кладбище развелось столько, сколько кур в курятнике, родственники покойников просили изобразить их горе строчкой из священного писания, излохмаченной львиной гривой, рыбой, заходящейся в исступленном беззвучном крике, да мало ли как — сколько ликов у горя, столько и изображений.
Но и у него, у Эфраима, стряслась беда — умер отец, плотогон Иаков Дудак, гонявший плоты аж в германский Мемель и говоривший по-немецки, как истый немец, а может, и лучше, потому что речь его была понятна не только немцам, но и евреям.
Иаков Дудак, отец Эфраима, хотя и не отличался такой силищей, как сын, был здоровяк из здоровяков, свободно подкидывал в воздух шестипудовую гирю, мог, не согнувшись, удержать на плечах бычка-двухлетку.
— Задуманы на веки вечные, — шипели завистники.
— Кто рождается на кладбище, тот либо долгожитель, либо дьявол во плоти. Дед Иакова Дудака Шимен среди могил родился.
Отец Эфраима был и долгожителем, и дьяволом во плоти одновременно. У него была удивительная способность заговаривать болезни, он не боялся самого лютого холода, расхаживал по снегу босиком, пугая коченеющих от страха перед резней и погромами сородичей, для которых снег и стужа были сущим наказанием, ниспосланным еврейскому народу за его грехи. Когда по местечку пошел гулять невеселый слух о смерти Иакова Дудака, никто поначалу не хотел верить. Те, что побойчей, доили пейсы, посмеивались: мол, нас не проведешь, мы, может, деньгами бедны, зато ума у нас палата, можем и вам одолжить. Но и самые бойкие, самые заядлые сдались, когда пришло время отпевать бессмертного Иакова.
Он лежал на полу завернутый в саван, казалось, такой же могучий, как прежде, и его крупное, как бы желтушное лицо выражало не смирение перед судьбой, а удивление и непримиримость. Его мертвые, свинцовой тяжести руки плыли по половицам, как бревна по реке, и сын его богатырь Эфраим не мог оторвать от них скорбно-восхищенного взгляда. Потом через два года он поставил на могиле памятный камень с изображением плота, мчащегося по бурным волнам жизни и исчезающего в непроглядной пропасти воды-смерти, а на плоту фигурку, маленькую, неприметную фигурку Иакова Дудака.
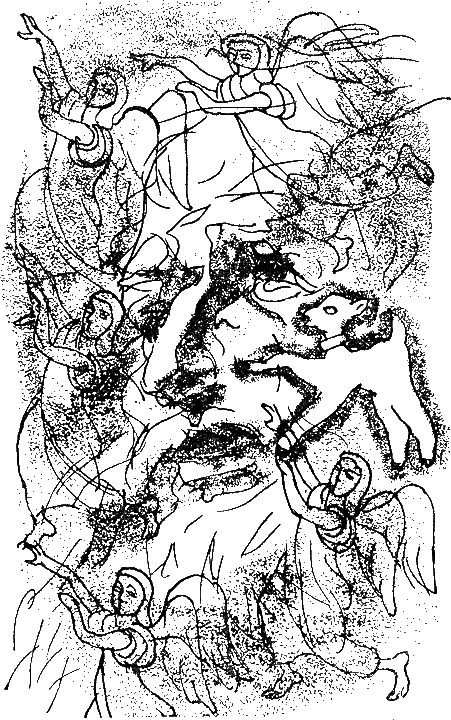
Памятный камень стоял бы и по сей день, Иаков Дудак и сегодня несся бы по бурным волнам на своем, уже неземном, плоту, не пристыди ваятеля рабби Ури. Где, мол, ты такое, Эфраим, видел на еврейском кладбище? По еврейскому кладбищу скачут каменные олени, на еврейском кладбище рычат каменные львы, развеваются на ветру раскрытые страницы торы, над еврейским кладбищем круглый год кружатся каменные мотыльки, но плотов никто никуда не гоняет — ни в Мемель, ни к божьему престолу. Как Эфраим ни объяснял почтенному рабби Ури, тот был непреклонен, тот только отмахивался и взамен плотов и рыб предлагал ваятелю виноград, пальмы, плоды граната, голубей, означающих любовь и согласие, и пеликанов с выводком, олицетворяющих родительскую заботу и преданность.
По правде говоря, Эфраиму до сих пор неясно, почему на еврейском кладбище плоту возбраняется лететь в небо, как птице. Небо же — не земля, там всем хватает места, там каждый — и бедняк, и богач, и плотогон, и плот.
— Грех. Неуважение к предкам, — ворчал рабби Ури.
И все, и кончен разговор.
Скрепя сердце Эфраим сколол отцовский плот, переделав его в челнок с маленькой, почти неприметной фигуркой гребца, уронившего весла. Но когда бы Эфраим ни пришел на кладбище, сколько бы ни стоял у отцовской могилы, он всегда видел этот сколотый плот, эту вспененную волнами реку жизни, это буйство и гибельную притягательность воды.
Он видел себя, того, молодого, не обремененного ношей лет, еще не изъязвленного горем, еще не траченного молью, печалью и отчаяньем. Видел свои руки — не сегодняшние, высохшие, как палки, а те, из далекого жаркого лета, лета его первой любви, его неведения; руки, не знающие усталости, сжимающие долото и зубило, резец и молот. С какой легкостью сновали они по камню, сколько в них было завораживающей прыти. Тогда, в то далекое жаркое лето, его руки напоминали двух забияк-петушков: пока не изойдут кровью, не уймутся. То было шестьдесят лет назад. А сейчас? Сейчас жизнь ощипала его боевых петушков. Сейчас до могилы так близко, и так пуста в восемьдесят лет котомка, с которой он придет к господу.
Как много камней и внутри, и вокруг — даже небо теперь как камень.
— Идите дорогой праведных! — говорил рабби Ури. — Вера придаст вам силы.
И они шли и верили — хиляки и богатыри, портняжки и сапожники, каменотесы и парикмахеры, плотогоны и гончары.
Верили! Эфраим может поклясться на библии! Верили в бога, в плот, мчащийся по волнам в небо, в силу, творящую добро и укладывающую зло на лопатки.
И что из их веры получилось?
Плот рассыпался, остались только склизкие мокрые бревна, и каждый норовит присвоить их, чтобы построить свой дом, срубить свой хлев, воздвигнуть свою крепость. Но что это за вера, которая умещается в одном доме, которую можно загнать в хлев, для которой требуется крепость?
Старику Эфраиму дом даже для детей не нужен.
Нет их.
Разлетелись кто куда.
Никогда не думал Эфраим, что заберет его такая тоска по детям, как сейчас, в канун его ухода, в конце его земного пути, который он на протяжении шести десятков лет добросовестно мостил отборными камнями, чтобы им, его счастливым и безвестным потомкам, было легче ходить и ездить (и верить!); пути, который он с обеих сторон обсаживал деревьями надежды, надежды на то, что когда-нибудь — когда его уже не будет и в помине! — сольется он, этот путь, разрезавший, как ножом, местечко на две половины, со вселенской дорогой, и его, Эфраима, дети выйдут по ней к свету и справедливости, к равенству и братству. Но ничто так медленно не плодоносит, как дерево надежды, всю жизнь ждешь его плодов, а на нем за одну человеческую жизнь только почки набухают.
Дорога! Дорога! Как ни пряма она, вспомнил Эфраим слова рабби Ури, а все равно ведет туда, на кладбище. Как странно — не дети, а чужие люди проводят его, опустят в яму, зароют, и не будет среди них, кроме камня, ни одного близкого родственника, ни сыновей, ни дочери. Камни — самые верные его родичи с того дня, когда отказался он пойти в плотогоны и отправился на строительство тракта, добравшегося и до его, Эфраима, родного местечка. Он не хотел быть плотогоном, не хотел быть портным или сапожником. Его сила потешалась над иголкой, презирала шило, требовала не подражания, а самостоятельности. Иаков Дудак, отец Эфраима, сына и дурнем обзывал, и недоумком, но Эфраим не сдался. Господи, сколько камней перетаскал он на себе, сколько их согрел своими руками, сколько уложил в землю, как в колыбель.
Любимица Лея, третья его жена, частенько упрекала его:
— Ты свои камни любишь больше, чем своих детей. Больше, чем меня.
Корила и тайком вытирала свои черные бездонные глаза.
Эфраим обнимал ее своими пудовыми ручищами, прижимал к своей богатырской груди и молча, дыша на нее виной и любовью, не то успокаивал, не то просил прощения, а может, и беззлобно журил.
— Всех на свете надо любить. И тебя, и детей, и камень. Кто ж его, одинокого, полюбит? Кто, если не мы… человеки?
Лея не понимала, почему это надо любить всех, даже неодушевленный камень, но Эфраим уверял ее, что у камня такая же душа, как и у человека. Во всем каменотес искал душу.
— Душу нельзя увидеть глазами, — говорил он. — Потому что глаз алчен и завистлив.
Лея все время ревновала его к чему-то невидимому, не доступному глазу, тонула в его молчании, как

