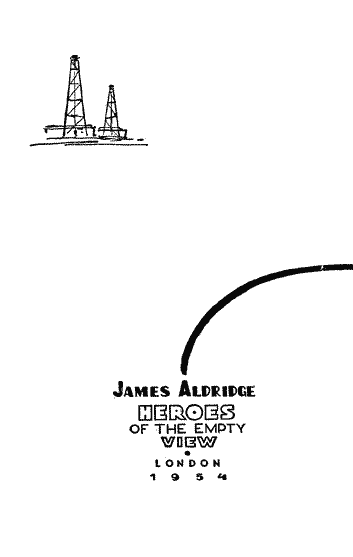

Книга первая
ПУСТЫНЯ
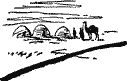
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Пустыня и века истории сокрушили Римскую башню. Обвалились стены, сводчатые залы занесло песком, от ограды не осталось и следа; и только ворота, вытесанные из светло-желтого камня, висели на своих петлях, почти не тронутые временем.
Над каменной плитой для этих ворот трудились не римские, а персидские каменотесы, и всю ее историю можно было прочесть в письменах, покрывавших поверхность камня. Она была изготовлена в Персеполе для персидского царя Артаксеркса, но надписи относились к эпохе Дария Третьего, его внука, который, однако, не нашел ей применения. Когда Александр Македонский взял Персеполь, он приказал перенести эту каменную плиту за три тысячи миль в Грецию и там водрузить в качестве памятника его персидских побед. Но воины, которым это было поручено, дотащили ее до окраин нынешней Аравийской пустыни и бросили у дороги: то ли получили другой приказ, то ли просто замучились.
Позднее лежавшую у дороги плиту нашли римляне и поволокли ее дальше на юг, к форпосту, выстроенному ими на краю пустыни. Здесь ее укрепили в проеме каменной арки, и она стала служить памятной вехой всем царям и полководцам, притязавшим на право владения бескрайними просторами внутренней Аравии. И поверх изначальной персидской клинописи стали ложиться все новые и новые письмена; не только греки, римляне, крестоносцы и аббасиды, но и каждый из последующих завоевателей спешил высечь на благородной поверхности камня какие-то слова и тем как бы закрепить в веках свою власть над Arabia Deserta[1].
Последние надписи были английские; несколько наших знаменитых соотечественников запечатлели на воротах свои скромные имена: путешественники — Палгрэйв и Доути, воины — капитан Шекспир и Т. Э. Лоуренс. На них все и кончилось: вторая мировая война превратила древний обычай в вульгарную забаву, и теперь уже каждый английский солдат, проезжая мимо на грузовике, считал своим долгом украсить древний камень фамилией Томсона или Смита. Это была своего рода заявка Томсона и Смита на Аравию, нужную им если не для себя лично, то для того нефтепровода, который змеей вился вокруг ворот, являя собой чисто английскую дань уважения вековой традиции.
Но ворота стояли нерушимо, и сейчас под ними спал человек, который, будучи историком и арабистом, должен был бы считать редкой удачей, что ему посчастливилось увидеть этот памятник, пусть даже подвергшийся осквернению. Впрочем, он об этом не думал и рассматривал ворота лишь как защиту от колючего зимнего ветра, свирепствовавшего над пустыней. Он, правда, оглядел их, когда подошел вплотную, но тут же повернулся спиной, улегся поудобнее, подложив под голову снятое с верблюда седло, натянул на лицо край покрывала и заснул. Это можно было истолковать или как полное равнодушие, или, в крайнем случае, как предельную усталость, однако для него самого тут было нечто большее. В этом движении человека, поворачивающего спину историческому памятнику, сказалась утомленность историей, потеря интереса к любым событиям прошлого, знаменовавшим переход человечества из одного исторического периода в другой, из одной стадии порабощения в другую. Тем более, что этот человек и в мыслях и в снах жил не только постылым прошлым и скучным настоящим.
На нем была арабская одежда, некогда ярко-желтого цвета, а теперь обветшалая и грязная; но сам он явно не был арабом. Отросшая на кирпично-красном лице борода была золотистая и мягкая на вид, густые брови выгорели на солнце, а тот, кому удалось бы заглянуть в глаза, прятавшиеся в тени глубоких орбит, увидел бы, что они голубые и холодные. В этих краях, где людей умеют распознавать с первого взгляда, его часто принимали за сирийца, за стамбульского турка, за египтянина, еврея или какого-нибудь полукровку из Багдада; но англичанин, вглядевшись повнимательнее, признал бы в нем своего — если не англичанина, то шотландца, валлийца или даже ирландца.
Он был невысок и неширок в плечах, но очень гибкий и верткий, с большой не по росту головой и крупным продолговатым лицом. Даже во сне он не давал себе отдыха; чувствовалось, что тело его напряжено и нервы натянуты. Если бы он мог посмотреть со стороны на себя спящего (а у него часто являлось такое желание), он сказал бы: вот ловкая подделка под шейха кочевого племени — внешне безупречная, но слишком уж безупречная, чтобы не быть личиной, и довольно неудобной и утомительной личиной для самолюбивого, волевого тридцатилетнего человека, у которого главное в жизни — умение держать себя в узде. Это шло вразрез с душевной непосредственностью вождя кочевников, роль которого он старался играть. И потому таким сложным и противоречивым было выражение его лица, отражавшее и самоуверенность, и болезненную впечатлительность, и недюжинный ум, и постоянно подавляемую беспокойную чувственность. Последнюю выдавали слегка приподнятые уголки полных губ, хоть их и пытались скрыть целомудренно строгие складки, идущие от крыльев носа.
В этого человека достаточно было вглядеться, чтобы его понять, но среди людей, которые его окружали, никто не интересовался подобными сложностями. Для арабов, вместе с которыми он боролся за свободу племен пустыни, он был тот, за кого себя выдавал: Гордон, вождь пустыни, вдохновляемый какой- то неизвестной и неясной целью; не араб и не последователь ислама, а совершенно явно англичанин и даже язычник — единственное, что казалось в нем загадочным жителям этой непривычной к загадкам страны.
Играет или не играет он роль, до этого здесь и вовсе никому не было дела. Но как бы там ни было, а поспать ему на этот раз не удалось. В полузанесенный песком узкий раствор ворот протиснулся мальчуган араб. Сзади его подталкивал другой, он шутливо отбивался, и дело кончилось тем, что оба свалились на Гордона. Тот вскочил и закричал на них по-арабски, свободно пользуясь самыми неожиданными оборотами.
— Бог наделил меня терпением, — сказал он, — но вы хоть кого заставите выйти из себя.
Он еще свирепо прикрикнул на них напоследок для устрашения и пинками вытолкал обоих обратно за ворота. Слышно было, как они там хохочут, продолжая возню; его суровость не обманула их, они его любили. Гордон оглянулся и увидел двух бедуинов, вылезших из ниши в стене, где они тоже прятались от солнца и ветра.
— Ах, вы! — воскликнул он. — Вояки! Разбойники! Такой надежной охраны во всей Аравии не найти! Не могли отогнать двух блох, чтобы они не кусали во сне несчастного пса!
Но его упреки не устыдили их. Эти люди были слишком отважны и дерзки — из тех, что не боятся смерти и презирают опасность. Впрочем, Гордону они служили довольно преданно.
— Гордон, — сказал Бекр, рослый араб с горящими глазами, в ярком бурнусе, за пояс которого были заткнуты два серебряных кинжала. — Если ты хочешь смерти этих двух блох, скажи лишь слово. Одно слово.
— Кровожадный Бекр! — протянул Гордон с оттенком оскорбительной насмешки в голосе. — Не надейся сводить свои счеты по кровной вражде, прикрываясь моим именем. Убивай кого хочешь, но меня к этому не припутывай. — Он снова уселся на одеяло и потянул к себе седло. — А теперь дайте мне спать!

