Я попросил узника встать. Он отказался. В ответ на мои настойчивые просьбы предпринял попытку подняться, но попросил поддерживать его. С поддержкой сделал два шага — по всей видимости, это было чрезвычайно болезненно для него. Как только я отнял руку, узник рухнул на пол. (Присутствовавший в продолжение всего моего визита стражник отказался поднимать его.)
Я помог узнику лечь в кровать, пообещав вернуться на следующее утро и начать лечение. В ответ узник еле слышно произнес, что не стоит беспокоиться. Сказал, что больше всего на свете хочет умереть. Как только Бог позволит.
Надо поговорить с ген. Баррасом по поводу
Что мы сделали…
Глава 1
НИЩИЙ НА УГЛУ
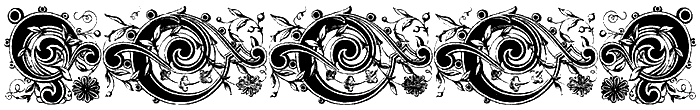
Я прожил немало лет — достаточно, чтобы успеть наделать самых разнообразных глупостей — несобственному изумлению, теперь обнаруживаю, что ценю лишь одну житейскую мудрость: никогда не допускай, чтобы записка с твоим именем оказалась найденной в штанах мертвеца.
В том-то и беда, что с именем. Меня зовут Эктор Карпантье. Сейчас уже профессор Карпантье, преподаватель Медицинской школы. Моя специальность — венерология, что служит неизменным поводом для проявлений студенческого юмора.
— Пошли, — говорят они. — Карпантье расскажет тебе о второй стадии сифилиса. После этого ты никогда уже не будешь…
Я живу на улице Эльдер, и компанию мне составляет полосатая кошка по имени Тихоня. Родители мои умерли, ни братьев, ни сестер у меня нет, и до сих пор Бог не благословил меня детьми. Одним словом, я сам составляю всю свою семью, так что порой, в минуты задумчивости, я уношусь мыслями к тем людям, которые, не будучи в прямом смысле родственниками, стали для меня семьей — по крайней мере, на какое-то время. Если вам захочется поймать меня на слове, скажу, что товарищей по Медицинской школе я помню гораздо лучше, чем собственного отца. А мать… что ж, она до сих пор остается со мной, и все же иногда, если я меняю угол зрения, она кажется мне менее реальной, чем Шарль. Который, в сущности, никогда и не был реален, но в течение некоторого времени являлся моей семьей.
Я вспоминаю его всякий раз, когда вижу пятилистник. Один взгляд — и вот я опять в Люксембургском саду, и на дворе май. Я слежу за проходящей мимо хорошенькой девушкой (ручкой, затянутой в перчатку кремового цвета, она сжимает зонтик от солнца), а Шарль тем временем размышляет, склонившись над цветами. Это его любимое занятие. На этот раз, однако, он срывает цветок и протягивает мне: «египетское созвездие», или пентас ланцетный.
Пять узких лепестков, отсюда такое название. Тише шепота. Представьте морскую звезду с океанского дна, которую вытащили на сушу… Впрочем, оставим это, я никогда не умел говорить красиво. Да и в самом деле, ничего особенного в этом растении нет, но когда я вижу его, как на дне чаши, в сложенной ладони Шарля, то чувствую, что оно здесь неспроста — как неспроста и все остальное: похрапывающий на скамейке скотч-терьер; лебедь в фонтане, чистящий взлохмаченные перья; покрытая патиной статуя Леонида. Я — мера этих вещей, а они — мера меня, и все мы, вместе взятые, представляем собой самодостаточную замкнутую систему.
Разумеется, в нашей ситуации ничего не изменилось. Мы по-прежнему отмечены знаком судьбы, он и я. Но в такие минуты над нами словно мелькает светлое крыло и кажется, что отмечены мы для чего-то хорошего. И все из-за глупого цветка, на который, не будь Шарля, я бы наступил и не заметил.
В последние дни я несколько раз вспоминал о нем. Это из-за того, что на прошлой неделе пришло письмо от герцогини Ангулемской (она сейчас гостит в имении графа Коронини в Словении). На конверте нет свободного места от марок, само же письмо, написанное ее обычным неуверенным почерком, представляет собой эссе на тему дождя, заканчивающееся молитвами. Мне оно согрело душу. Поговаривают, что герцогиня пишет мемуары, но я в это не верю. Нет женщины, с большим рвением охраняющей тайну своей жизни, чем герцогиня. И она будет делать это до того момента, как официально объявят о ее смерти.
Что, я полагаю, произойдет не скоро. В этом смысле Бог не лишен чувства юмора. Чем сильнее Его слуги жаждут оказаться рядом с Ним — а герцогиня точно этого жаждет, — тем дольше Он удерживает их в юдоли скорбей. Он предпочитает накладывать Свою тяжелую десницу на богохульников. Возьмите, к примеру, господина Робеспьера. На самом пике террора Робеспьер решил, что имя Бог звучит чересчур старорежимно. Посему, в качестве главы Комитета общественного спасения, он провозгласил, что Бога отныне следует называть Высшим Существом. Если не ошибаюсь, это продвижение Бога по служебной лестнице даже отметили празднеством. А может, парадом. Точно сказать не могу, мне тогда было только два года.
Несколько месяцев спустя, когда Робеспьер с простреленной челюстью, стеная, шел на эшафот, придумывал ли он извинения? Этого мы никогда не узнаем. Ему было не до мемуаров.
Что касается меня, то у меня времени хоть отбавляй. Но воспользуйся я этим и решись описывать свою жизнь, я вряд ли начал бы с обычного ритуала — в смысле, с потемневших от времени портретов предков, с акушерок, принимающих роды в суровых холщовых перчатках, — и вот, мол, появился на свет я. О нет, мне придется начать с Видока. И не исключено, что он появится и под занавес моей истории.
Я понимаю, это звучит странно, учитывая, что в его обществе я провел не больше пяти недель. Прошло пятнадцать лет, в течение которых я не получал от него практически никаких известий. Так зачем же мне вспоминать то ужасное, что свело нас вместе?
Во всяком случае, не затем, чтобы мне поверили. На это я не надеюсь. Если уж на то пошло, я пишу, чтобы убедить в истинности случившегося самого себя. Неужели те события, в самом деле, произошли? Причем именно так, а не иначе? Остается одно: изложить все как было, как можно точнее, в надежде, что прошлое опровергнет мое к нему недоверие.
Как все-таки легко сделать так, чтобы время исчезло. Стоит прикрыть глаза — и двух десятилетий как не бывало, и вот я опять в…
Год 1818. В соответствии с официальными записями, это двадцать третий год правления короля Людовика Восемнадцатого. Однако почти весь этот период — не считая трех лет — его величество правил где-то совсем в другом месте, прятался, как не преминет съязвить какая-нибудь неблагожелательная душа, в то время как небезызвестный корсиканец с успехом превращал Европу в подставку для ног. Теперь это уже не важно. Корсиканца заключили в темницу (опять); Бурбоны водворились на свое законное место; схватка затихла; будущее безоблачно.
Этот любопытный период междуцарствия во французской истории проходит под названием Реставрация, что, как известно, означает «восстановление». Подразумевается, что к французам, насытившимся бессмысленными экспериментами с демократией и империей, вернулся здравый смысл, и они вновь позвали Бурбонов в Тюильри. О прошлом вспоминать не принято. Мы все получили столько политических впечатлений, что хватит на целую жизнь, и знаем наверняка: кто придерживается твердой линии, больнее расшибается.
Мне тоже это известно — даже, несмотря на нежный, на момент начала истории, возраст: я так молод, что, глядя на себя тогдашнего, едва узнаю этого юношу. Мне недостает четырех лет до тридцати:

