нескольких усилий она распахнулась. И там, за дверью, большой необъятный свет. Тепло. Какие-то птицы, большие и маленькие, прыснули стаей. Скрылись.
Вниз идет лестница. Сойти по этой лестнице — первое самостоятельное действие в моей жизни. До сих пор меня сносили на руках. Еще ни разу мои ноги не коснулись ступенек.
И вот теперь, когда никто не мешает, когда я один, я чувствую, как грудь расширяется ощущением свободы. Хочется побежать по этой лестнице быстро-быстро или ринуться вниз, зажмурив глаза. Но инстинкт берет свое, и я, цепляясь руками за стенки, сползаю задом наперед все ниже и ниже. И вот я на земле, на зеленом ковре травы.
Здесь я выпрямляюсь и делаю первые самостоятельные шаги на земле. Надо куда-то идти. Куда-то тянет. Подняв руки, я пошел прямо вперед по свободной улице, к солнцу. Первые неверные шаги вскоре окрепли. Я вспомнил, как ходят другие люди, как ходят и даже бегают бойкие мальчишки, которые пощипывали меня иногда при встречах. И мне казалось, что я иду не хуже их, что я могу даже бежать. Я побежал. Вероятно, со стороны этот бег выглядел смешным. Он был не такой быстрый. Ноги обвивала трава. Иногда между пальцев попадали травинки, и самостоятельный человек падал. Но, поднявшись, я продолжал начатое движение и дошел наконец до большой светлой лужайки, где стояли совершенно новые, блестящие желтые срубы только что начатых построек. Я влез в один сруб. Там показалось уютно, красиво; во всяком случае, необыкновенно. Там много всяких стружек, палочек. Прорубленные отверстия окон, наверху решетка стропил, на которых нет еще крыши. Солнце вливает в проруб двери и сверху снопы тепла и света. Я совершенно забыл и время и место. Было очень интересно набирать напиленные планочки и кусочки дерева.
Вдруг мелькнула какая-то тень, заслонила солнце. Я посмотрел. Большая собака стояла в двери на бревне. Красный язык висит, глаза блестят.
— Серко, — сказал я, — иди сюда.
Но Серко стоял, устремив глаза на меня и не выказывая никакого желания подойти. У этого Серко было что-то другое во всем его облике, нежели у нашего Серко. Наш пес, пожалуй, величиной не меньше этого и очень ласков. Когда случайно удавалось Серку попасть в избу, он всегда облизывал меня языком; лизал прямо в лицо или в руку, и было приятно положить на его мягкую мохнатую спину руки и подергать его за шерсть.
Наш Серко был очень послушный, и если я ему кричал: «Серко, поди сюда!» — он прибегал и ложился вблизи, поглядывая своими спокойными глазами и как будто спрашивая, зачем его позвали.
А вот этот Серко не обнаружил ни малейшего желания подойти. Он не махал хвостом и вообще был какой-то чужой и чем-то непохож на нашего Серко.
В это время на улице вдруг послышался шум. Люди что-то громко кричали. Слышно было, как несколько собак залились лаем. Большая собака, стоявшая в двери, повернулась на шум. Вдруг сделала громадный прыжок, перемахнула через светлые смолистые бревна и скрылась. Собачий лай на деревне разлился в длительный визгливый вой. Люди закричали, но это не привлекло моего внимания, и я опять занялся своими щепочками.
— Тут кто-нибудь есть, — послышался чей-то голос, — а то чего бы он сюда лез.
Вслед за словами в проеме двери появился высокий светлобородый человек. Это был дядя Архип, плотник. Я его знал.
— Вон он, — сказал дядя Архип. — Анна, подь-ка сюда, тут Еремкиных мальчонок. Снеси-ка домой.
Анна, молоденькая, светло-русая, с серо-голубыми глазами девушка в белой сорочке, вышитой красным, и в синем сарафане быстро вскочила в сруб и подняла меня на руки.
— Костенька, ты что тут? Ведь тебя волк чуть не заел. Испужался, миленький?
— Серко пришел, — ответил я. — Язык красный.
— Так этот Серко волк и есть. Он бы тебя заел. Зачем далеко от дому ушел?
— Ладно, не пужай парня, — сказал Архип. — Не боится и ладно. Молодец!
Он схватил меня под мышки и высоко поднял над головой.
— Не бойся, не бойся! Вырастешь — сам волка побьешь. Мамке шубу сделаешь.
И отдал меня Аннушке.
Аннушка крепко прижала меня к своей груди. Бегом помчалась к нашему дому, где, впрочем, никто меня не спохватился — все были заняты обычными утренними заботами.
Когда Анна рассказала про мое приключение с волком, тетка схватила меня и сначала дала пару шлепков, а потом, держа на коленях и прижимая к себе, залилась горючими слезами.
Я не понимал причины таких волнений. Правда, с тех пор как я стал что-нибудь соображать и сколько-нибудь говорить, я слышал о волках. Не раз слышал, что это какие-то страшные звери, которые съедают непослушных ребят или непослушных телят, или «жеребенков», как мне говорили. И мне казалось, что это какое-то чудовище величиной если не с дом, то по крайней мере с баню. И когда мне теперь сказали, что этот, такой простой пес, вроде нашего Серко, и есть страшный волк, то понятно, этому я совершенно не поверил. Почему же он страшный, если так похож на Серко? А Серко наш совсем не страшный, и в деревне таких Серко, наверное, десятка полтора и тоже не страшные.
Отличие между волком и собакой мне было совершенно непонятно. Даже видя убитых волков, я не понимал, почему наш Серко, наши собаки такие добрые и ласковые, и почему такие же, очень похожие на них собаки называются волками и их стараются во что бы то ни стало убить.
Хильда Тихля
Родилась в приходе Ямся (Финляндии) в крестьянской семье. Прослушала филологический курс в Хельсинском университете. Участвовала в революциях 1905 и 1918 гг. Была арестована, но сумела бежать и тайно переправиться в Швецию. В 1924 г. приезжает в СССР, в Карелию. Литературную деятельность начала в 1907 г. в Финляндки. Работала в больших и малых жанрах прозы.
Ею написан роман «Лист переворачивается» (1936 г.). На русском языке выпущен сборник рассказов «Избранное» (1966 г.). Была членом Союза писателей СССР.
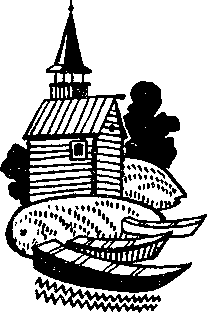
Тэллу
Последнее время Тэллу одолевала инстинктивная тревога. Понять, откуда она, он не мог. Но она была вокруг, ею был пропитан воздух, которым он дышал, она пронизывала все его существо. От этой внутренней тревоги Тэллу время от времени испускал тоскливый и протяжный вой, отзывавшийся дурным предзнаменованием в многоопытных сердцах Пелтонена и его близких.
— Беды бы какой не приключилось в дороге, — сказала Пелтонену жена. — Будто перед смертью, собака воет.
— Скажешь тоже, — ответил Пелтонен. — Воет, только и всего.
Но Пелтонену и самому было не по себе, совсем не по себе. Вой напоминал ему о чем-то таком, что он вот-вот навсегда утратит, о чем-то очень далеком и в то же время бесконечно дорогом, с чем так трудно расстаться. Были в этом вое и стенания невидимых духов, и застывшая неподвижность долгих зимних ночей в снежной пустыне.
Пелтонен не был суеверен, но все же от воя Тэллу сильно поблекла заманчивая картина золотоносных холмов в Америке, которую он рисовал в своем воображении. Вой уже заранее бередил в

