Воры обычно имеют при себе одну или две колоды карт, на которых гадают приемами игры в стос. Необычайно распространенная в воровской среде игра в карты носит характер своеобразного примитивного культа. Хороший игрок в карты («играющий») ценится не меньше, чем хороший вор. Достоинства игрока конкурируют с достоинствами вора. Карты в сознании вора неразлучны с его профессией. По положению карт во время игры он судит о своем будущем, о предстоящей краже: выиграв — он уверен в удачном завершении своего предприятия, проиграв — он теряет всякую веру в себя. Достаточно вору удачно играть в карты (даже заведомо употребляя шулерские приемы, которые отнюдь не предосудительны в воровской среде и оговариваются известными правилами игры), чтобы любой вор взял его компаньоном («корешем», «клиентом») в свою шайку в надежде, что счастье («фарт») будет на его стороне.
Нельзя дать лучшей характеристики воровскому слову, чем характеристика его как орудия. Вор интересуется не передачей своих мыслей и взглядов (что могло бы подразумеваться под термином «общение»), а только тем эффектом, которое производит слово на окружающих.
В наиболее чистом виде слово как орудие проявляется в сигнале. Таковы воровские «зеке», «шесть», «шестнадцать», «цинк», «пуль», «тырь», «вались», «ша», «на», «ша-кай», «стремь», «казаки» «вилы» и др.
Воровские слова-сигналы могут быть отождествлены с терминами спортсменов при игре в футбол, теннис и т. п., только гораздо более развитыми и глубже проникающими в быт. Так же точно, как при игре, повторяющаяся ситуация создает обстановку, при которой короткий выкрик позволяет сразу уяснить себе часто весьма сложное, хотя и стереотипное, положение и одновременно приказывает совершить известное действие, — у воров несложность и стереотипность положений и выработанность определенного образа действий создают почву для развития по преимуществу сигнальной речи. Примитивность воровской деятельности и «производственных» отношений играют в этом, конечно, основную роль. Примитивные формы труда создают положение, при котором достаточно указать на ситуацию, чтобы характер действия был ясен. Понятно, что то чрезвычайное распространение, которое получил сигнал в воровской среде, может иметь место только при не менее сильном развитии коллективных представлений и норм поведения, при стереотипности реакции, при полном уничтожении отдельного индивидуума в общем воровском стаде. Малейшее нарушение воровских норм поведения ведет к расшатыванию всего уклада воровской среды, рассчитанного на безусловное подчинение коллективу.
Большое количество воровских слов носит сигнальный характер. Необходимо отметить, что правила воровского «приличия» не позволяют вору задавать вопросы. Это не только мера предосторожности, необходимая для соблюдения тайны, — правило это лежит глубоко в языковом сознании воров и связано с их подсознательной верой в магическую силу слова. В самом деле, слово для вора не только «орудие производства», к которому часто прибегаем и мы, — приказание, но и заклинание.
Не удалось еще установить факта существования в воровской среде заклинания в своей чистой и откровенной форме. Для этого воровская среда еще слишком связана с современностью, но в скрытой, завуалированной форме вера в силу слова над неодушевленными предметами в ней тверда и прочна. Прежде всего та необычайная, совершенно чудовищная гипертрофия брани в воровской среде, буквально через слово пересыпающая воровскую речь и ни к кому конкретно не обращенная, говорит о каком-то стремлении сделать свою речь действенной, активно воздействующей. Несомненно, что психология брани, преимущественно сексуально направленной и обращенной к неодушевленным предметам (в особенности при работе), свидетельствует о пережитках магических воззрений.

Для характеристики той силы, которая придается бранному слову, укажем, что брань, обращенная не в пространство, «на воздух», как это обычно имеет место, а к вору, составляет оскорбление, смыть которое может, по воровским представлениям, только «кровь». Явление не менее характерное, чем брань, — воровская «божба», клятва. Какой смысл был бы в клятве для вора, если бы в сознании вора не укоренилась скрытая вера в магическую силу слова? Между тем вор очень часто прибегает к клятве (обычная формула: «лягавым буду», «сука буду, не забуду — век мне на свободе не бывать»).

Древность воровского языка
Некоторые авторы считают, что воровской язык произошел от условного языка «офень», слова которого были найдены в рукописи XVIII века (Рукопись XVIII века. Описание Кричевского графства Ал. Потемкина). Эти слова близки современному воровскому языку, например «хлиз в хаз» — идти в дом, «лох» — мужик и пр. Против некоторых слов как слов близких воровскому языку возражать не приходится, но что касается самого вывода в отношении безусловности происхождения воровского языка от искусственного языка офень, как вывода малообоснованного, стоит возразить. Некоторое сближение воровского жаргона с жаргоном «офень» безусловно имелось (см. выражение «по фене ботать», т. е. говорить на языке «офень»). Но связь, основанная на заимствовании слов одного жаргона от другого, еще не доказательство того, что язык воров произошел от языка «офень».
Преступникам больше, чем торговцам, нужен тайный язык. Тюремные стены, вместе с солнцем и воздухом, отнимали у человека и свободную речь, а она необходима каждому, а особенно заключенному, у которого так велико стремление к свободе и общению.
На условном языке преступнику легче договориться с товарищем относительно побега из тюрьмы. На жаргоне лучше провести совещание о совместном осуществлении «голодовок» как протеста против тюремного режима, а часто тайный язык помогает снестись с вольными, «своими» людьми. Но и вне стен тюрьмы этот тайный язык необходим блатному: дать знак об угрожающей опасности, сообщить в людном месте среди «не своих» о выгодном «деле», предупредить при допросе и т. д. Большую роль в сношениях играет и блатной шрифт, корень происхождения которого мудрено искать у «офень», а ведь условный шрифт преступников, по-видимому, развивался вместе с «блатной музыкой».
Итак, стихийная выработка жаргона преступников диктовалась необходимостью. Тайная речь воровской организации развивалась вместе с преступлениями: грабежами, воровскими налетами и тому подобными темными делами.
Шор в своем труде «Язык и общество» отмечает начало возникновения «воровских языков» с эпохи развитого денежного и торгового капитала (во Франции XV в., в Германии XIII в., в Англии — XVI в.). В «Истории России» Соловьева можно найти целые страницы, посвященные грабежам, конокрадству и проч. в древней Руси: «В старину между русскими мошенниками и разбойниками существовал особый, условный язык, непонятный для незнающего правил, по которым он был составлен. Целые фразы придуманы были для выражения мыслей и понятий. Так, у волжских разбойников слова „сарын на кичку“ значили „бить всех“, слова „пусти красного петуха“ обозначали „поджигай дом“, „слова „по реке волна пошла“ значили „за нами погоня“ (ср. воровские слова: „вода“ — сыщики, „смыть“ — посадить“, „вассер“ — знак осторожности и синоним опасности)».
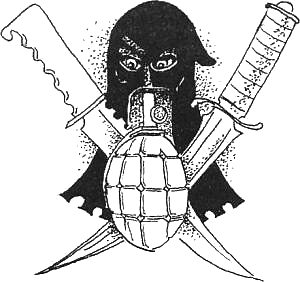
В книге В. Н. Добровольского «О Дорогобужских мещанах и их курбацком языке» пишется: «В XVIII столетии Дорогобуж был местом ссылки преступников и бродяг. У мещан гор. Дорогобужа давным-давно, а когда — она сами не знают, образовался таинственный язык, вроде тех языков, какие в некоторых местностях употребляют бродяги и воры. Этим языком пользуются ремесленники и мелкие торговцы». Следовательно, уже в XVIII столетии воры говорили на условном языке.
В трудах проф. Сиповского «Из истории русского романа XVIII века» есть указания на то, что «Ванька Каин связан фигуральными выражениями». Проф. Сиповский приводит часть слов, употребляемых Ванькой,

