расстались – не важно, по чьей инициативе, но по их вине, – зачем они возвращаются? (даже так —?!) Человек, который год или пять лет назад разбил тебе сердце, от которого уползла в слезах и соплях, ненавидя или прощая – нет разницы, – которого не забыла до сих пор, как нельзя забыть удаленный аппендикс, даже если все зажило, хотя бы из-за шрама. Который ясно дал понять, что все кончено. Зачем – он – возвращается? Раз в месяц или в полгода, но ты обязательно получаешь весточку. Sms, письмо, звонок. Он хочет всего лишь узнать, как дела, похвастать очередным успехом, позвать в кино, переспать или снова послать меня к черту. Я не могу, я всю жизнь подыхала от недоумения, и не я одна страдаю, потому что ну все уже, все – он десять раз с тех пор женат и я дважды замужем, гадости все друг другу сказаны, извинения принесены. Я давным-давно равнодушна, мне до сих пор больно. Такие дела, милый, такие дела – все сводится к противоречию: я давным-давно равнодушна, мне до сих пор больно. Неубедительно? Но это именно то, что я чувствую. Полюбив, мы открываем доступ к своему сердцу, односторонний канал на сколько-то мегабит, который заблокировать невозможно. И каждый, давно не милый, отлично чувствует линию и раз от разу набирает номер, чтобы спросить: «Хочешь в кино?» И я отвечаю: «Я не хочу в кино. Я хотела прожить с тобой полвека, родить мальчика, похожего на тебя, и умереть в один день – с тобой. А в кино – нет, не хочу». Ну то есть вслух произношу только первые пять слов, но разговор всегда об одном: он звонит, чтобы спросить: «Ты любила меня?» И я отвечаю: «Да». Да, милый; да, ублюдок; просто – да. Я давным-давно равнодушна, мне до сих пор больно. Я до сих пор выкашливаю сердце после каждого коннекта. Не знаю, как сделать так, чтобы они, возвращенцы эти, перестали нас мучить. Можно быть вежливой, орать, не снимать трубку, но в любом твоем деянии (бездействии) он все равно услышит ответ на свой вопрос: «Ты любила меня?» – «Да». В покое оставляют только те, кого не любила. Точнее, если они и звонят, этого просто не замечаешь. Вывод напрашивается, и он мне не нравится. Может, самой слать им эсэмэски раз в месяц? Расход небольшой, покой дороже: «Я любила тебя». Уймись.
Любовное письмо – это особенная вещь, оно отличается, например, от письма любимому и от описания любви, хотя корни те же. Любовное письмо чаще всего адресовано пишущему и призвано оформить в слова то, что он, пишущий, желает чувствовать на сегодняшний день. То есть это документ о намерениях и зачастую не содержит ни слова правды, но совершенно при том искренен. Это также документ о правах – «сим передаю получателю», отдаю себя в руки твои, моя репутация погибла, теперь ты знаешь, и так далее.
В моем самом лучшем любовном письме был только номер телефона. Я ушла, пока человек спал, а в качестве извинений оставила десять цифр. Это значит – ты мне понравился, давай продолжим. Очень глупо – сразу после секса всегда хочется сбежать, как с места преступления. Не знаю, что меня гонит, уж точно не стыд – чего стыдиться-то? Молодые матери иногда не могут заснуть в одной комнате с ребенком, потому что все время прислушиваются, не перестал ли он дышать, – и я не могу спать с новой любовью. Слушаю, как она дышит и поворачивается, и боюсь. Ухожу, как только откроют метро, потому что не хочу посмотреть в глаза, может, мне страшно увидеть, что он меня не любит. Напрасно – мужчина уж так устроен, что просыпается на гормональном подъеме и с эрекцией, и я теряла чудесное утро каждый раз, когда убегала.
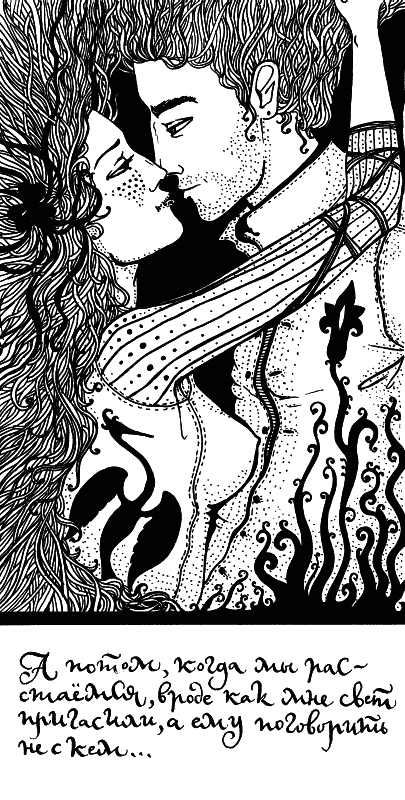
В моем самом глупом любовном письме, кроме прочего, были две фразы: «Ненавижу тебя за то, что ты позволил мне разлюбить. Надеюсь, тебе больше никогда не повезет». Первая – чистая ложь, вторая сбылась.
Самое честное любовное письмо выглядело так: «Хочу тебя увидеть» – в ответ на его, такое же: «Хочу тебя увидеть».
Самое нарядное – «Ловлю себя на том, что когда перед сном думаю о тебе, то с особой нежностью обнимаю ту мужскую спину, которая есть под рукой, потому что нежность естественным образом выступает сквозь кожу при мыслях о тебе, как при нагревании пероксида бария выделяется кислород (2BaO2 = 2BaO + O2)».
Самое простое: «Жизнь прекрасна. Я задыхаюсь от боли. Иногда».
И вот я подумала, что нужно написать еще одно письмо. Трудно сказать, сколько любовей у меня было, в сентиментальном настроении считаю, что три, в добром – две, в приступе честности прихожу к выводу, что одна. В отчаянии мне кажется, я никогда никого не любила. Чтобы никого не обидеть, напишу троим – общее.
«Спасибо за то, что тебя нет со мной, теперь наша любовь в безопасности навсегда. Я очень рада, что у тебя есть жена и дети, – значит, ты никогда не вернешься, чтобы все испортить, и никогда не умрешь. Правда, однажды ты все-таки умер, и это была самая отвратительная выходка из всех возможных. Подло так выходить из игры, я ведь почти победила. Но зато я могу теперь сочинить для себя такую историю любви, какую захочу. Извини, если я тебя запутала. Просто учитывай, что ты у меня в трех экземплярах и с каждым было по-разному – или одинаково, как посмотреть. В любом случае тебе, бредущему в густом тумане моей памяти, не особенно важно, жив ты или нет, главное – выбраться. Я желаю тебе, чтобы в серых разрывах блеснула синяя река, у которой мы гуляли почти пять лет. Чтобы ты безошибочно узнал те вечножелтые клены, под которыми мы сидели на лавочке в нашем единственном октябре. Чтобы белые деревья, с которых мы не успели попробовать плодов, потому что наша любовь началась и закончилась вместе с весной, наконец отцвели. Я желаю, чтобы подул ветер, тот, что вечно несет прелюбодеев во втором круге, не давая им прикоснуться друг к другу. Чтобы он выдул остатки тумана и отнес тебя так далеко... Впрочем, мы уже далеки настолько, что если чуть перестараться, рискуем встретиться, сойдясь с другой стороны. Так что пусть ветер утихнет и начнется дождь, который смоет наши следы, запахи и записи. Сорока дней было бы достаточно. А потом желаю огня, который спустится, чтобы согреть тебя, – он должен быть очень сильным, потому что все порядком отсырело. На этом остановлюсь, потому что ни голода, лишающего иных страстей, ни болезни, меняющей тело до неузнаваемости, я для тебя не хочу. Напротив, желаю тебе здоровья. Ну или покоя, если здоровье уже не актуально. Взамен прошу только прощения».
Я ехала в Питер, уже и не помню, которое это было из моих одиноких осенних путешествий. Всегда – ночь, всегда ноябрь, когда снег уже идет, но еще не устал и не ложится надолго. И вот мы трогаемся, в плацкарте не включают свет, заоконных фонарей пока достаточно, поезд в городской черте едет тихо-тихо. Все молчат – что тут скажешь, успели, и ладно, пока не заберут билеты и не принесут белье, шевелиться бессмысленно. И вот мы все молчим, кроме одной женщины в соседнем купе, которая не особенно громко, но и не сдерживаясь, плачет. Обстоятельно, бесстыдно, банально. Потому что ничего другого не остается плывущим во чреве ночного кита – когда за окном фонари и снег, а ты везешь свою тоску в Питер, – но мы, люди со вкусом, не позволяем себе потакать очевидному. По той же причине, по которой не произносим первую шутку, пришедшую в голову, – она слишком предсказуема. И поэтому первую предсказуемую реакцию мы тоже припрячем, а женщину накажем единственным способом, доступным людям со вкусом, – не станем обращать внимания, вот и все. Она, наверное, ждет, что кто-то утешать полезет? Но это все равно что засмеяться, когда стоящий впереди тебя в очереди плоско пошутит с продавцом. Хотя, может быть, нас удерживала не гордыня, а смирение, потому что ее рыдание, и темнота, и натопленный вагон превратили наш поезд в посткатастрофическую теплушку, а нас – в беженцев, у которых не осталось сил ни на свои, ни на чужие слезы. Смотришь в одну точку, не развязывая платка, и думаешь только о том, сколько часов тепла и неподвижности у тебя есть, прежде чем придется опять вставать и жить. Она доплакала, включили свет, проверили билеты, и дальше была какая-то жизнь, о которой мало что помню. А мой отложенный плач, который никуда не девался, я довезла до Финского залива и, глядя в море, выпустила из легких – как выпускают из рук горячего толстого голубя, – не со слезами, а с теплым дыханием, смешавшимся с сырым воздухом, с серой водяной взвесью, которую принято называть особой питерской атмосферой. Передвижения по Питеру (кто пошлее, называет «бродить», а кто попроще – «гулять») – это всего лишь вытаптывание бездомности, из сердца в ноги. Бездомность собирается тяжестью в ступнях, беспокойной болью в икрах, потому что нет в этом городе места, где можно разуться, распариться, потом окунуть ноги в масло, завернуть в махровое полотенце и положить на колени к сидящему рядом, подсунув

