если заупрямятся, на Двине пойман и доставлен в Москву заложником знатный новгородский боярин с сыном. А то нескладно: ушкуйникам хмель, а всей Руси похмелье.
Великокняжеской казной — с тех пор, как разгорелась «великая замятия», — распоряжались на Москве совсем необычно. Даже страшновато было об этом и вслух-то говорить: уж который год дань в Орду не возили совсем, то есть ни единого рубля. Это как бы само нечаянно забылось. Да и к кому возить-то? К темнику Мамаю либо к городу Сараю? «Царев выход» по-прежнему собирался, но оседал он в Москве. Тут получалась, конечно, и хитрость по отношению к своим, так как многие еще и не ведали, что дань не платится. Но хитрость оправданная, наперед оправдываемая.
Несколько лет безотцовщины не прошли для Дмитрия даром. Он видел — по действиям своего совета, по последствиям этих действий, — какие ощутимые плоды приносит решительность, согласуемая с трезвой умеренностью, наконец, с милосердием к тем, кто от души повинился. Великому князю нельзя в своих действиях опираться только на закон, на правила, неукоснительно переходящие из рода в род. Одной рукой надо держать Право, другой же — Правду. Милосердную, потесняющую, когда надо, и закон.
У Дмитрия-Фомы, знали в Москве, подрастает дочь Евдокия. Да и великий князь московский и «всея Руси» близок был к возрасту, когда пора подумать о суженой, о продолжении рода. Того самого рода, который и в одной и в другой семье изводили от славного Большого Гнезда.

Глава четвертая
ЮНОСТЬ МОСКВЫ
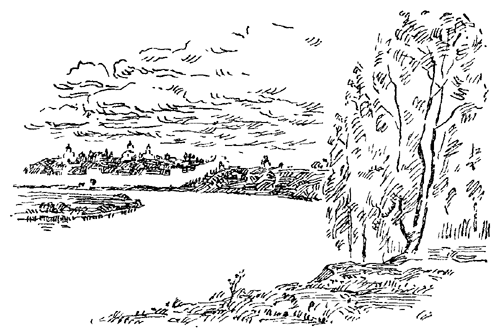
I
Не в укор, не в попрек будь сказано, но ни у кого из наших знаменитых старых историков — ни у Карамзина, ни у Соловьева с Ключевским — не найдем мы в главах, посвященных Дмитрию Донскому, объяснения, почему великий князь московский повенчался с нижегородской княжной Евдокией не у себя дома, на Москве, и не у нее дома, в Нижнем Новгороде, а в достаточно удаленной от Москвы и от Нижнего Коломне. Само это сведение — в пересказе или в выдержке из летописи — приводят, но ни один не указывает на причину странного, не в обычаях тех времен, поступка: устроить свадьбу далеко в стороне от собственного стола.
Итак, в разновременных летописях встречается одно и то же, предельно краткое, почти дословно повторяющееся упоминание: «Тое же зимы (1366 года), месяца Генваря в 18 день, женился князь велики Дмитрей Ивановичь у великого князя у Дмитреа Констянтиновича у Суздальского и у Новагорода Нижнего, поя дщерь его Евдокею, а свадьба бысть на Коломне».
Ясно, конечно, что союз этот, как и большинство тогдашних междукняжеских браков, заключался не без учета политических соображений. Обстоятельства переменчивы, сегодня между недавними противниками мир, а завтра, кто знает, какая еще кошка вздумает дорогу перебежать. Свадьба же миру не помеха, но, напротив, лишняя скрепа.
Установление лада в отношениях князей-соседей вовсе, однако, не было поводом для того, чтобы каждому из них тут же размякнуть душой, подобно воску на солнце, и позабыть о своем самодостоинстве. Не потому ли и не повез Дмитрий Константинович дочь свою прямехонько в Москву? Пусть тезка московский и отнял у него великий стол, но не по чину нынешнему, так по весу прожитых годов он куда тяжеле своего будущего зятя... И юный жених вполне мог сейчас думать сходную думу: ему ли, первому князю всей Руси, ехать на женитьбу в Нижний? Это ведь и впрямь будет выглядеть неким унижением... Вот и сговорились оба — предположим мы — выбрать местом свадьбы ни к чему не обязывающую Коломну. (Так и дальше будет у тестя с зятем: но случаю крестин третьего сына Дмитрия и Евдокии, Юрия, снова встретились в месте, условно говоря, пограничном; Дмитрий Константинович, как и московская сторона, прибыл в Переславль, к Плещееву озеру, тут гуляли...)
Но можно и иначе истолковать выбор Коломны. Она ведь по значимости своей числилась вторым после столицы городом во всем московском княжестве, а кроме того, это был первый его, Дмитрия, город, так как — напомним — именно Коломну московские князья обычно завещали в удел старшим сыновьям, и Дмитрий еще в малолетстве, при княжении родительском, знал твердо: Коломна — его добро, его особая забота на целую жизнь, сколько бы еще ни народилось у него братьев и как бы мелко ни пришлось делить им в будущем отчую землю. Когда-то, лет уже шестьдесят тому, прадед Данила Александрович отбил Коломну у рязанцев, столкнул их с московского берега Оки. Справить теперь свадьбу в Коломне — значило лишний раз подчеркнуть исключительную значимость для Москвы этого порубежного с рязанской землей города. Дмитрий тем самым как бы лишний раз доказывал Рязани свою силу, а то южная эта соседка опять стала задираться и дерзить при нынешнем ее князе Олеге. Побил Олег Тагая — и молодец; но свои-то старые раздоры что вспоминать? Прадед сжал ладонь, и правнук разжимать ее не собирается, блюдя родовое: «Что в руку взято, то навсегда». Пусть же и до рязанских ушей долетит с коломенского холма праздничный благовест и венчальная песнь.
И вот в разукрашенных санных поездах, укутавшись в жаркие, заиндевелые снаружи меха, в щекочущих струях ветра, под пение полозьев издалека поспешали навстречу друг другу молодые, неслись по твердо- пушистым ложам двух рек, уже прочно замерзших: она — вверх по Оке, он — вниз по Москве-реке, летели в отроческом волнующем предощущении любви — к тому месту, где реки эти обнимутся и сольются в таинственной тени зимнего покрова.
Но было еще одно обстоятельство, им-то, пожалуй, надежнее всего объяснить выбор Коломны.
Дело в том, что свадьба просто никак не могла состояться в Москве, потому что Москвы на ту пору вообще... не существовало. И не в каком-нибудь иносказательном смысле слова, но в самом прямом, неумолимом и суровом.
Это случилось еще летом 1365 года; в те дни было в Москве, по летописи, «варно», то есть жарко очень, стояли «засуха велика и зной». Небольшой, сплошь почти деревянный город, давно не кропленный дождями, оцепенело приумолк, только изредка, неслышно человечьему уху, пискнет новая щель вдоль усыхающего срубного бревна да сухо просыплются из лопнувшего стручка твердые горошины. Крыши, заборы, листва, ботва огородная и придорожная гусиная травка — все покрыто пыльным налетом, обесцветилось; душно и в тени изб, душно и в самих избах, лишь под утро чуть остывают крыши, но тут снова впиваются в них косые лучи; на дубовых, много раз латанных стенах старенького Кромника рассохлась и поотвалилась местами глиняная обмазка, а с нею и известковая побелка; река обмелела, еле течет, а по вечерам не клубится мягкими туманами; немногочисленные колодцы вычерпаны почти до дна; кое-где бока срубов слезятся проступившей наружу хвойной смолой, и она засахаривается вскоре на жару; псы во дворах примолкли, лежат в тени с вываленными языками; небо — и не смотреть бы на него — белесо-пустое, будто с него тоже давно не смывали налет пыли, и ветерок не налетит ниоткуда, а и налетел бы, так перенес с места на место ту же пыль московскую, хрустящую на зубах песком.
В ближних к городу борах ржавый хвойный настил сухо трещит под ногами, душно тут, как на чердаке.
Так и не вызнали, отчего беда пришла на этот раз: от детской шалости, от вражьего ли поджога? Многие потом свидетельствовали, что первой вспыхнула деревянная церковь на посаде. Будто дожидаясь условленного знака, невесть откуда прыгнула на город ветряная буря.
Все длилось не более каких-нибудь двух часов. Сначала огненная лава пронеслась по посаду: люди бросались к одному, другому двору, но сорванные вихрем с крыш головни и целые горящие бревна летели по воздуху через десять дворов. Нечего было и думать о спасении домашнего скарба. Огонь уже лизал крепостные бревна у подножия кремлевского холма. Кажется, мига не прошло, как весь холм поднялся на воздух сияющим столбом, — и где они, красные княжьи терема, льдистые грани четырех каменных церквей, святые надгробья в прохладной полумгле, слава и слезы, и пот, и труд, — где?.. Головни с шипом посыпались с неба на воды Неглинки, Москвы-реки. Черными охапками дыма всклубилось Занеглименье, и над недавно отстроенным Заречьем нависла темень. Люди валили толпами к воде, потом просачивались, жмясь к береговой кромке, кто — вверх, за Черторый, кто — вниз, к Яузе. Город у них за спиной выл и гудел огненным нутром, пожирая все подряд — сундуки с шубами и поневами, низки жемчуга и деревянную щербастую посуду, книги с алыми и черными буквами, обезумевших свиней в клетях, деревья и груды мусора на задворках, траву и паутину — все.
...На новой бумаге, сшитой в новую тетрадь, свидетель немного позже записал: «Весь город без остатка

