— Ничего в этом письме нет! Сказал же Леня: «живехонька-здоровехонька»! Просто измучился старик за три недели, хочет посидеть с друзьями… Пойдем, папаша, не надо его стеснять.
Приходят Иван Константинович с Леней.
— Вот что, друзья мои… — начинает Иван Константинович, как всегда, когда он открывает «вече» и собирается произнести речь.
Но тут же он замолкает. Растерянно обводит нас беспомощным взглядом своих добрых медвежьих глаз.
Мама приходит ему на помощь:
— Письмо получили, Иван Константинович?
— Получил. Да. От Тамарочки… — отзывается он деревянным голосом. — Вот оно…
И он достает из бокового кармана конверт — уже знакомого нам вида, — узкий, изящный, сиреневого цвета.
Ох, была бы у меня такая почтовая бумага, я бы каждый день письма писала! Вот только одна беда: не только бумаги такой у меня нет, но и письма мне писать решительно некому.
— Сашенька, — просит Иван Константинович, — ты Тамарочкин почерк знаешь? Прочитай вслух…
Но тут вмешивается Леня. Он все время не спускал с Ивана Константиновича тревожного взгляда и теперь берет у него из рук сиреневый конверт:
— Не Надо вслух, дедушка! Пусть каждый читает про себя…
Мы так и делаем. Вот оно, письмо Тамары. К нему нужно еще добавить бесчисленные кляксы, ошибки, помарки, какие-то рисуночки, — тогда все будет во всей красе!
"Дорогие дедушка и Леня!
Как вы поживаете? Отчего вы мне не пишете, аи, аи, аи, как нехорошо, вы меня забыли, я плачу…
(Здесь нарисована рожица, из глаз ее катятся небольшие блинчики и сбоку приписано: «это мои слезы».)
Я живу чудненько! Просто сказать, роскошно! У тетушки дом в два этажа, четырнадцать комнат. И весь дом занимает одна тетушка! Вы такой квартиры, наверное, никогда и не видали, даже у Нютки Грудцовой такой нет. В моей комнате обои не бумажные, а стены обиты английской материей, называется "чини, ".
Нютка лопнула бы от зависти, наверное, лопнула бы.
Мы уже переехали в Павловск на дачу, каждый вечер ездим на музыку, там самое лучшее общество. Только, к сожалению, много всяких Дрейфусов! Но кто в платочке или без шляпки, тех даже не впускают в зал. Простонародье слушает музыку из-за мостика. А вчера днем я была просто счастливая, потому что в парке мимо меня проехали великий князь Константин Константинович с сыновьями, и они привстали в стременах, и они отдали мне честь, потому что Павловск принадлежит им, значит, они здесь хозяева, а я, значит, ихняя гостья, и они меня приветствуют, это у них такой обычай. Правда, красиво?
Скоро уезжаем за границу. Я вам оттуда пришлю адрес. Дедушка, миленький, надо все-таки, я думаю, прислать сюда бабушкин трельяж красного дерева. Пусть тетушка видит, что мы у дедушки Хованского жили тоже не как последние какие-нибудь.
Целую вас крепко-крепко. Привет Сингапурке, злому попугайке.
Ваша забытая Тамара".
Все мы прочитали письмо Тамары. Сидим, молчим. «Веча» сегодня не получилось — нечего обсуждать, все ясно.
Иван Константинович прощается и идет к двери:
— Ты, Леня, здесь оставайся. Я немного пройдусь — пускай меня ветерком ополоснет…
После его ухода Леня бежит к окну. Смотрит на улицу и удовлетворенно кивает:
— Молодец Шарафут! Ведь он еще ничего не знает, что за письмо, о чем письмо. А вот чувствует, что дедушка огорчился, и — глядите! — идет за ним! Крадком идет, чтобы дедушка не заметил…
Глава шестая. НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ
Вечернее чаепитие на даче — священнодействие!
Оно объединяет не только членов семьи, но и друзей, приехавших или пришедших пешком из города (дачный поселок расположен от города недалеко). В особенности, в такие времена, как сейчас, когда все волнуются из-за всяких неожиданных поворотов в деле Дрейфуса. Крейсер «Сфакс» уже приплыл во Францию, и слушание дела уже началось в суде города Ренна, в Бретани.
Все недоумевают, почему дело слушается не в Париже, а в бретонском захолустье. Все гадают: хуже это для Дрейфуса или лучше? Умные люди считают, что хуже. Это врагам было нужно, чтобы новый процесс слушался не в Париже, где сильны социалисты, где много рабочих, учащейся молодежи, много сторонников Дрейфуса. Бретань — это не только глубокая провинция. Спокон веку Бретань — это сердце контрреволюции, монархических заговоров, зловещее гнездо католических священников.
Ничего хорошего тут ждать не приходится.
И в нашем городе — далеко от Франции — честные люди мечутся, стараются узнать что-нибудь помимо скудных газетных телеграмм, хотят встречаться с единомышленниками и друзьями, разговаривать и спорить до сипоты, засиживаясь иногда до поздней ночи за вечерним самоваром.
Мы сидим на балконе: мама, папа, Иван Константинович с Леней, Александр Степанович.
У всех, по-видимому, то сдержанно-сосредоточенное настроение, какое обычно нападает на человека в этот час.
— О чем вы так упорно думаете, Александр Степанович? — спрашивает папа.
— Я? Да как будто ни о чем особенном… — отвечает Александр Степанович, словно стряхивая с себя задумчивость. — У меня почему-то все время вертится в мыслях: «…сообщите капитану Дрейфусу…»
Все смотрят на Александра Степановича вопросительно.
И он поясняет:
— Вы только подумайте: «Сообщите капитану Дрейфусу»!
Значит, он снова капитан? Он восстановлен в прежнем чине и звании. Он уже — не шпион! Пять лет он был тягчайший государственный преступник — у него не было ни имени, ни фамилии! Собака и та имеет кличку! А у него был только номер… Понимаете, каково ему было прочитать: «Сообщите капитану Дрейфусу»! Пять лет с ним обращались как с бессловесной скотиной…
Пять лет он не смел спросить у кого-либо из тюремщиков… ну хотя бы который час. Даже врач не смел сказать ему ни одного слова! И вот он сразу переходит на крейсер «Сфакс», — и там все, надо полагать, обращаются с ним безусловно вежливо! Ведь хорошо?
— Хорошо! — отзываемся мы с мамой и Леней.
— Нет, вы вдумайтесь поглубже во все это. В телеграмме сказано: «Сообщите капитану Дрейфусу, что он снова имеет право носить военный мундир»… А он помнит день своей гражданской смерти — своего разжалования, — когда его водили, как преступника, перед войсками, а толпа кричала: "Смерть шпиону!
Бросьте его в Сену!" И вот ему снова можно надеть такой же мундир, как тот, который тогда изорвали на нем в клочья.
— Хорошо! Хорошо! — снова кричим мы.
— Хорошо-то хорошо… Конечно, хорошо. А вот как будет дальше?
— Я понимаю Александра Степановича, — вмешивается папа. — Александр Степанович сомневается — и не зря сомневается. Ведь Дрейфус не имеет представления о том, что происходило за эти пять лет, — о том, как лучшие люди боролись за него и буквально вырвали эту победу: новый пересмотр судебного процесса. А Дрейфус, может быть, надеется, что этот пересмотр — одна формальность, что уже установлена его невиновность, что Франция встретит его с распростертыми объятиями.
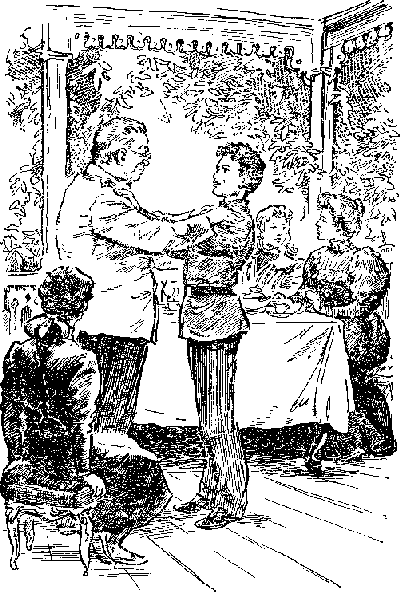
— Между тем, — продолжает Александр Степанович, — враги Дрейфуса во Франции вовсе не разоружились, они не собираются сдаваться. Признать, что они осудили невинного, защищали грудью шпионов Эстергази и Анри, покрывали фальшивки и клевету? Никогда этого не будет!
— Да… — вздыхает Иван Константинович. — А Дрейфус-то узнает об этом только тогда, когда они приедут…
— Да… Только когда приедут…
— Приехали! Привезла я их! — говорит, входя на балкон, Вера Матвеевна, и ее доброе лицо со слепыми

