было километров пятнадцать от Вальдбурга. Решил направиться туда, не мешкая. Все равно день пропал. Кроме того, он не привык ничего откладывать на завтра.
...Это был поселок кооперативных домов времен Гитлера, расположенный над живописной лесной речкой. Кемпер был здесь давно, еще до войны. Помнил маленькие огородики с брюквой, розовые беседки, садики, величиной с ладонь, пригодные разве что для японских садовых культур. Дорога туда была в то время еще голой, какие-то хилые прутики торчали по обочинам, теперь прутики выросли и стали ветвистыми яблонями, и ехать по этой дороге было приятно: здесь чувствовалась настоящая Германия — деловитая, уютная страна, в которой живут солидные, уверенные в себе люди. А он отныне теряет право на спокойную жизнь в Германии, на своей родной земле, — ему угрожают, его начинают преследовать... Пытался разжечь себя, вызвать гнев к тем неведомым преследователям, но был бессилен это сделать, потому что сразу же перед его глазами возникал узкий лагерный плац с волнистой шеренгой заключенных, длинный барак с одной стороны, запутанная стена колючей проволоки — с другой, и он, блестящий штабсарцт, только что побритый, освеженный кельнской водой, после вкусного завтрака, похлестывая стеком по высокому лоснящемуся голенищу, бежит вдоль шеренги людей-теней, которые по его команде высунули языки (это было его изобретение — командовать «Цунге раус!» и всех, кто не подчинялся команде, выбраковывать для крематория в первую очередь), и тычет затянутой в лайковую перчатку рукой то в одного, то в другого, и эсэсовцы тянут обреченного, и человек исчезает навсегда. Теперь, через двадцать лет, «они» вспомнили того молоденького штабсарцта, надушенного кельнской водой, и стали его разыскивать. Видали! Если уж на то пошло, то он даже не знал, зачем перебирают узников, отделяя больных от здоровых. Ему было приказано каждое утро осуществлять врачебную селекцию — и он осуществлял. Куда исчезали те люди, на которых указывала его рука, он не знал. Никогда не интересовался. Лагерь — не курорт: там должны были быть люди здоровые, и он отвечал за них, да, да, отвечал! И может, это была рука судьбы, а не его, штабсарцта Кемпера, рука, которая указывала на тех, которых нужно было убрать ради общего блага! Пусть бы попробовали те, которые сегодня разглагольствуют о гуманности, побывать тогда на его месте. Они готовы теперь проливать слезы над каждой могилой так, будто забыли, что война без убитых невозможна. Они ищут доктора Кемпера! Может, для того, чтобы он подставил им под их физиономии медицинские ванночки для слез?
Он разжигал себя все сильнее и сильнее, готовясь к встрече с американским полковником, у которого была смешная фамилия, похожая то ли на какое-то блюдо, то ли на американский напиток. Почему-то считал, что полковник начнет допрашивать его строго, как следователь военного трибунала, а он, в свою очередь, будет не обороняться, а сразу же перейдет в наступление, начнет обвинять всех, в том числе и полковника, за то, что не дают спокойно жить порядочным людям.
Но когда увидел издали аккуратное пятиэтажное здание, белые занавески на окнах, стены, увитые сочно-зеленым плющом, дохнуло на него таким привычным покоем, таким всем немецким, что снова вылетели из головы суровые разоблачения, заготовленные для противников, и он остановил машину возле полосатого шлагбаума, успокоенный, и с какой-то даже ласковостью посмотрел на высокого американского солдата, который выходил из будочки.
— К полковнику... — Кемпер достал конверт, посмотрел на него. — К полковнику Хепси как мне проехать?
Солдат, поправляя автомат, который висел на правом плече на белом широком ремне, подошел к машине, молча протянул руку. Это был молодой самоуверенный нахал, который понятия не имел о существовании на свете какой-то там вежливости, каких-то общепринятых правил хорошего тона. Кемпер покраснел, возмущение снова закипало в нем, сдавливало горло, но он сдержал себя, хорошо понимая, что необдуманной выходкой перед этим нижним чином только навредит себе. Изобразив на лице вежливую улыбку, подал американцу конверт. Тот повертел его в руках, посмотрел против солнца, спокойно сунул конверт в глубокий карман (на брюках у него было нашито с полдюжины таких карманов), неуклюже повернулся и побрел назад к своей красиво разрисованной будочке.
— Эй, — не выдержал Кемпер, — куда же вы?!
Солдат не оглянулся даже. Кемпер, вспотевший от возмущения, готов был развернуть машину и уехать домой. Он так бы и сделал, если бы... Ах, если бы он мог делать всегда то, что хочется делать! Для этого нужно иметь абсолютную независимость. Независимость от всего мира. А у кого она есть? Где есть хотя бы один такой счастливый человек? Концлагерные дураки, видимо, считали тогда таким всемогущим и независимым его, штабсарцта Кемпера. Он мог махнуть рукой, а мог и не махнуть. Мог отдать эсэсовцам того или иного, а мог и не отдать. Если бы так было! От него ведь требовали ежедневной «продукции»! Он имел установленный сверху «план». И если бы он не выполнял, то... Речь шла даже не просто о соблюдении заранее установленной цифры — нужно было «перевыполнять», иначе тебя не считали старательным солдатом и ты за милую душу направлялся на Восточный фронт. Разве теперь расскажешь обо всем этом всяким слюнявым международным комитетам и объединениям, которые борются за какие-то фантастические принципы, на самом деле играя на руку коммунистам и только коммунистам!
По кирпичной дорожке, обсаженной розами, шел к шлагбауму от крайнего здания невысокий стройный офицерик, подвижный, как японец из фильмов Куросавы. Солдат вылетел из будочки ему навстречу, по- лошадиному потопал ногами, офицер махнул ему рукой, подошел к Кемперу.
— Вы хотели к полковнику Хепси? — спросил на довольно чистом немецком языке.
— Да... у меня... ваш солдат забрал письмо... Рекомендательное письмо от...
— Пожалуйста, — сказал спокойно офицер, — я могу вас провести.
— А... — Кемпер хотел спросить о машине.
— Машину оставляйте здесь. У нас не принято заезжать туда, — он снова, как и солдат, махнул небрежно рукой, пошел впереди Кемпера, взял у солдата письмо, не глядя, сунул его в карман своего новенького френча.
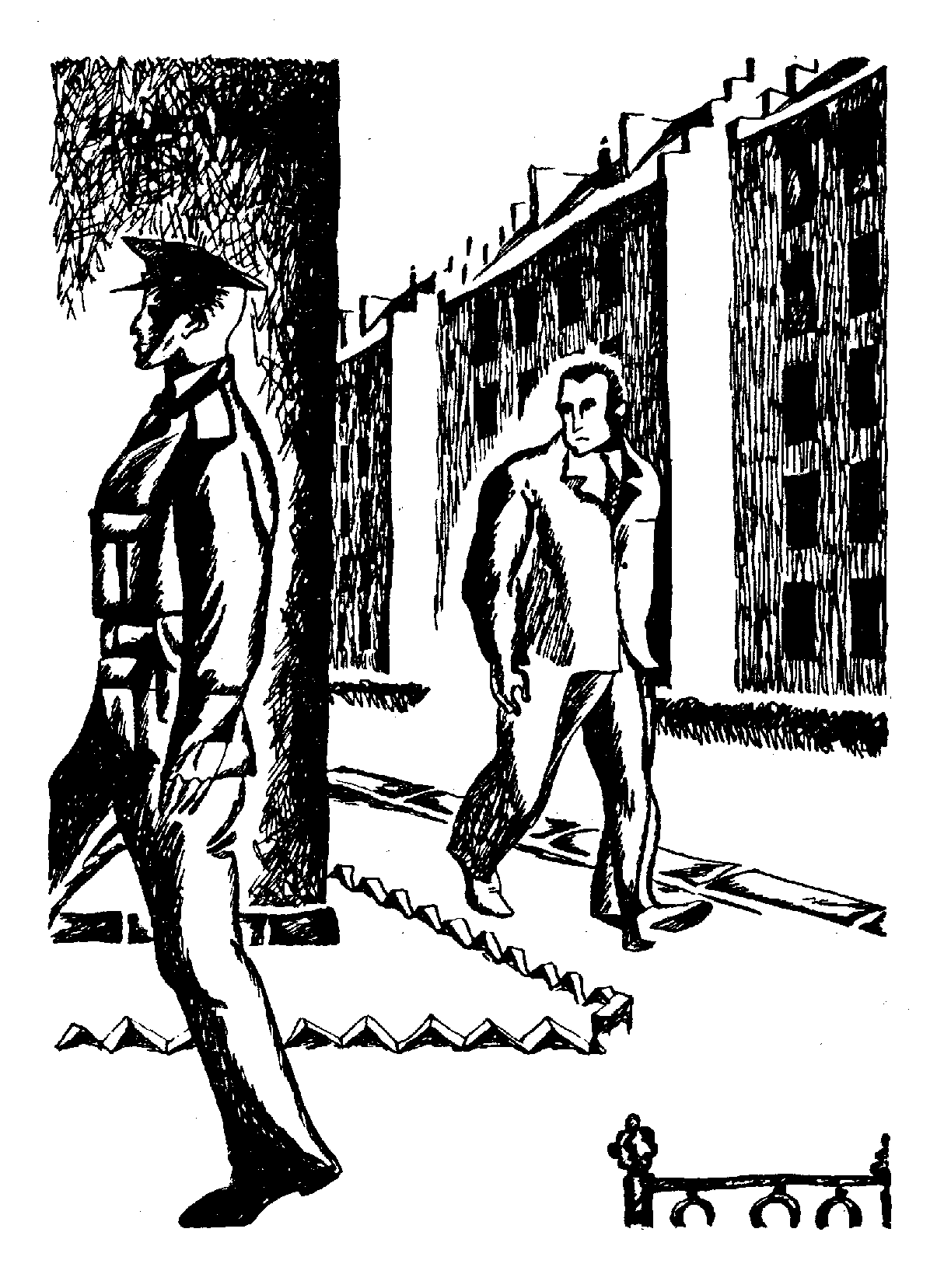
Кемпер шел за офицером, и казалось ему, что попал он в какое-то зачарованное царство. Грелись против солнца десятки добротных немецких домов, зеленел плющ на их угловых, а кое-где и на фасадных стенах, белели занавесочки на окнах, клумбы пестрели разноцветными розами, хозяйская заботливость чувствовалась в каждом кусочке земли, а между тем вокруг не видно было ни одной живой души. Офицер и Кемпер шагали по отполированной, словно бы даже вымытой — такой она была чистой, — кирпичной дорожке тротуара, их шаги отдавались странным эхом среди пустынного поселка, дома безмолвно белели чистыми занавесками, за чисто вымытыми стеклами не промелькнуло ни одно лицо, ни одна дверь не открылась, не скрипнула, не стукнула, и ни одно живое существо не вышло им навстречу, не показалось издали, — они шли по городу мертвых, жуткому в своей красоте и убранстве.
Кемперу стало страшно. Он оглянулся, готов был удрать к своей машине и поехать туда, где есть люди, где клокочет жизнь, где он может бороться за свое существование, за свои права, но они уже завернули за угол дома; шлагбаум и машина Кемпера за ним скрылись из виду, дома позади смыкались молчаливой мрачной шеренгой, а впереди сухо отдавались спокойные шаги юркого офицера, так, будто произносили: «Иди за мной! Иди за мной!»
Этот странный, монотонный до убийства марш длился невесть сколько. Офицер остановился у какой- то двери, нажал на кнопку; дверь медленно открылась без постороннего вмешательства, за дверью тоже было пусто, широкая чистая лестница вела наверх, офицер направился на второй этаж, там снова была дверь, снова кнопка, на которую нажал тонкий палец офицера, снова дверь открылась сама собой, но в коридоре стоял мрачный верзила с таким же автоматом, как и у того, что у шлагбаума. Офицер сказал ему: «Это со мной», — тип кивнул головой. Они пошли дальше, еще было несколько дверей, и за каждой из них нахальные типы с оружием, и каждый раз офицер произносил свою фразу: «Это со мной», а у Кемпера с каждой новой дверью и с каждой новой фигурой часового душа сжималась, убегала дальше и дальше, и уже напрасно было бы искать ее там, где надеются найти при самых трудных обстоятельствах, — в пятках. Выбраться отсюда сам он не сможет никогда и ни за что. Разве лишь договорятся они с таинственным полковником Хепси-пепси. Вера в добрые намерения государственного советника Тиммеля давно развеялась. Кемпер слишком хорошо знал, что дружба бессильна, где появляются такие вот мрачные часовые. Друзья могут уладить свои дела где-нибудь за бокалом коньяку, слушая приглушенную музыку, раскуривая сигару. А когда тебя вызывают во дворец правосудия, а потом посылают к неизвестному, чужому полковнику, ведут к нему сквозь целый лабиринт, будто к мифическому полубыку на растерзание, то ты и

