запирали на замок. Когда заведующий лабораторией поручал мне скопировать для него какую-нибудь статью, он представлял обращение в первый отдел, тамошняя тетка шла вместе со мной к машине и следила за каждым жестом. О каком самиздате могла идти речь в таких условиях!
Приходилось закладывать копирку и стучать на машинке. Сразу же после отъезда Иосифа мне попали в руки его черновые тетради. Я была очень далека от архивной науки и мне даже не пришло в голову их описать: мол, черная клеенчатая или что- то в этом роде, сброшюрованная или переплетенная. Когда много лет спустя Гарик Суперфин взял у меня на выставку Самиздата какие-то тома стихов и письма Иосифа, он представил мне пространное описание взятого, где были заприходованы даже почтовые штемпели! Я же, увы, ничего подобного не сделала, и внешний вид тетрадей, действительно, забылся. Зато я перепечатала их, все подряд, и была счастлива видеть и сличать варианты, разбирать заметки на полях, зачеркнутые строчки, иногда столбики рифм. Старалась распределять на листе строки так, как их написал Иосиф, понимая, что больше этих тетрадей никогда не увижу: твердо помню, что Иосиф перед отъездом распорядился все это отдать М. Б. Совсем недавно я узнала от Льва Лосева, что на самом деле они оказались в одном из западных архивов и, значит, доступны исследователям. Но тогда я даже не подозревала, что сама окажусь в Европе всего через три года.
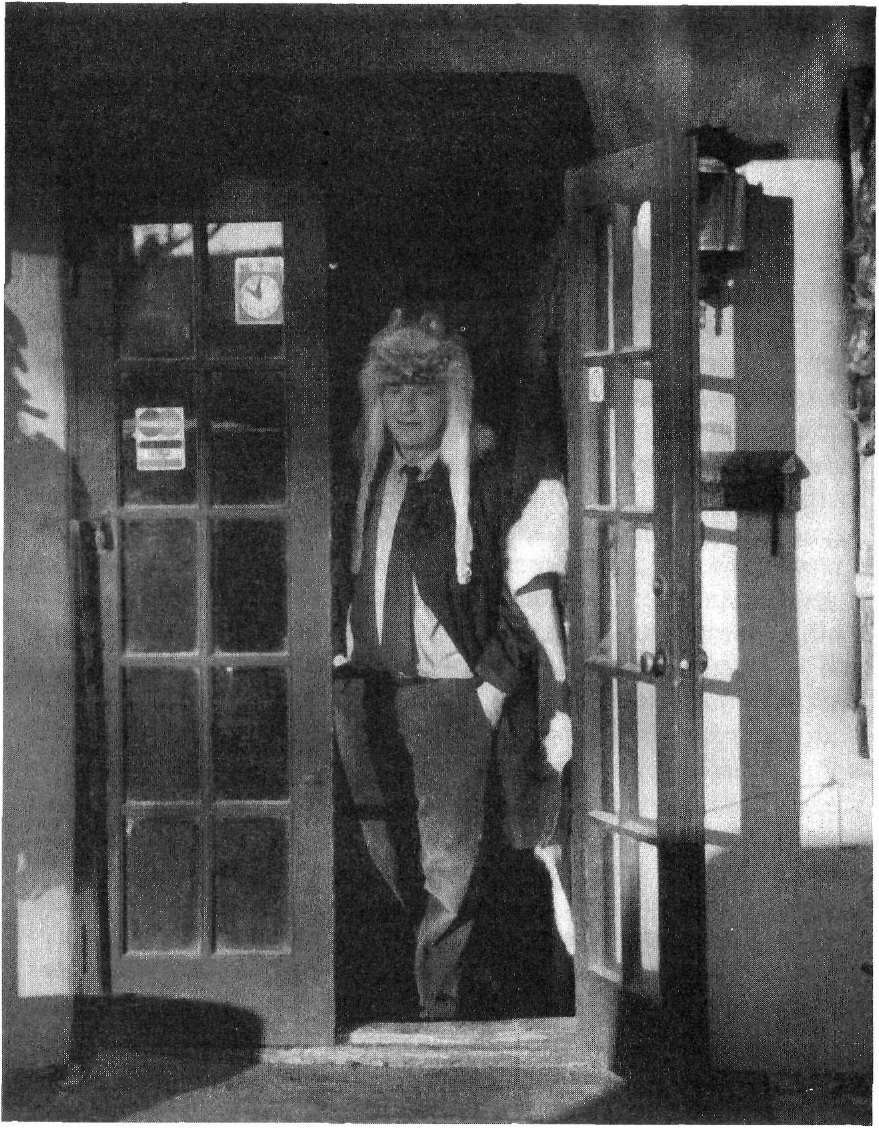
Поскольку на Западе, живя на разных континентах, мы виделись с Иосифом гораздо реже, а его слава взлетала с космической скоростью, то я далеко не всегда знала о его делах и ситуациях. Часто попадала впросак, всегда абсолютно случайно. Так, однажды я беспечно спросила Иосифа, как ему новые романы Аксенова. Читала я тогда только «Ожог» и «Остров Крым», была ими очень разочарована и обрадовалась, что мнение Иосифа с моим совпадает. И еще уточнила: а другие его вещи тебе нравились? «Да, ранние рассказы нравились», — ответил Иосиф, и я была довольна, что отношение к Аксенову у нас было одинаковым. Тогда я понятия не имела (а он ни словом не обмолвился) о хамском пасквиле Аксенова в одном из его многословных и рыхлых романов.
В другой раз ситуация была более серьезной. В начале 1984-го мы сидели в кафе на рю Монж, и я, по просьбе Володи, напомнила Иосифу об отдельном издании «Песен счастливой зимы». Эта идея возникла давным-давно — мы ее предложили еще в начале 1976 года в Риме и, по его просьбе, выслали ему все входящие в этот цикл стихи для просмотра и обработки. Через три года Иосиф пишет мне из Нью-Йорка: «Что касается „Писем', то идея, конечно, симпатичная; но все это так давно было, что никаких эмоций проект этот у меня не вызывает. Надо будет еще раз просмотреть рукопись, но как раз руки-то, писанием или пес знает чем занятые, покамест не доходят». В другом письме, адресованном Володе, он снова находит идею «симпатичной», но «состав чересчур фривольный» (?). «Вообще же, обсудим проект этот, когда я окажусь в Европе». Так что при встрече в Париже я снова спросила, как дела с «Песнями счастливой зимы» — мол, мы по-прежнему хотим их издать. Иосиф на меня посмотрел пристально и даже как-то испытующе: «Ты знаешь, что Карл очень болен, у него рак?» По моему пораженному виду он сразу понял, что мне об этом ничего не известно. Не мог он на самом деле подумать, что я, считая, что дни Карла сочтены, предлагаю ему другое издательство! Помолчав, он сказал: «Пока Карл жив, я буду издаваться в Ардисе». И еще чуть позже прибавил: «Да и потом, наверное, тоже…ведь они со мной тогда возились, как с ребенком…» Могу только добавить, что и на первом посмертном сборнике Иосифа, «Пейзаж с наводнением», тоже стоит гриф «Ардиса»…
Всякий раз, когда мне случается проходить мимо этого кафе на рю Монж, я вспоминаю этот разговор и прямой, немигающий, недоверчивый взгляд Иосифа.
Таких стоп-кадров у меня в Париже довольно много, хотя Иосиф город не очень жаловал и бывал здесь не часто. А иногда приезжал, но пребывания своего не афишировал. Языка он не знал и поэтому здесь как-то томился. Но, во всяком случае, никогда Париж ему не казался «скучным и некрасивым». Однажды мы с ним вошли в кафе где-то на бульваре Сен-Жермен, нас встретил официант и повел за собой в поисках места. В те дни в Париже повсюду висели афиши с портретом Марины Влади. Была такая и в глубине кафе. Официант подвел нас к столику, как раз под этой афишей. «Вот так и знал, — сказал Иосиф, — что меня обязательно посадят под Мариной».
В другой раз в другом кафе, на рю дез Эколь, помню Юрия Кублановекого, к сборнику которого Иосифом как раз писал послесловие. Оригинал этого послесловия, присланный Володе, с пометками и исправлениями Иосифа, у меня сохранился, так же как и сопровождавшее его письмо от 16 февраля 1983 года, где Иосиф извиняется за задержку, а «Юра пусть простит меня за отсутствие цитат: мы же договаривались, что Вы пришлете манускрипт — но Вы не прислали. Так что уж не взыщите. Если Вы сочтете предисловие это слишком длинным, валяйте режьте, но предварительно все же снеситесь со мной». Через какое- то время я привела в кафе Наташу Бабицкую (дочь Татьяны Великановой) — исключительно, чтобы доставить ей удовольствие «увидеть поэта вблизи». Потом Иосиф мне сказал: «Какая милая эта Великанова! Давно не видел таких хороших русских лиц». Ну как было не передать заинтересованному лицу этот отзыв! Конечно, он доставил Наташе удовольствие, и она немедленно принялась подсчитывать — какой же процент русской крови она имеет на самом деле.
Иосиф сперва поговорил с Кублановским о книге, но очень скоро озадачил нас вопросом: «А ну — какое отчество у Баратынского?» Как назло, ни я (как уже говорилось, я переставала соображать в тот самый момент, когда Иосиф ко мне обращался), ни Юрий ответить не смогли. Иосиф развеселился, как от удачной шутки: «Я думаю, это называется вытеснение!» (Отчество Баратынского — Абрамович.)
Приведу здесь и еще одно высказывание Иосифа по национальному вопросу, которое он произнес, как всегда очень энергично, не сомневаясь в своей правоте. Он утверждал, что еврейская кровь в полукровках всегда скажется, всегда проявится, — какова бы ни была другая половина. За единственным исключением: только кровь англосаксов поглощает еврейскую целиком, подминает ее под себя и практически устраняет из фенотипа.
Как все, что я слышала от Иосифа, я приняла к сведению и эту сомнительную сентенцию, с которой никак не могу согласиться. В России я знала многих полукровок, у которых — без наличия документов — еврейскую кровь не заподозрил бы самый прилежный советский кадровик. И напротив, в Америке галахического еврея бывает довольно просто обнаружить, хотя весь его род по отцовской линии идет прямиком с «Мэйфлауэра».
В Париже есть места, которые всякий раз напоминают мне о встречах с Иосифом. Так, однажды, ему нужно было куда-то в район Монпарнаса, и я сказала Володе: вот здесь свернешь и — вдоль по Распаевской! Осе это очень понравилось — надо же, мне не пришло в голову: «По Распаевской!»
В один из приездов Иосифа в Париж мы как-то договорились с ним встретиться на остановке автобуса, куда Дита мне привозила четырехлетнего Гришу и, не выходя, ехала дальше, на занятия. Получив Гришу с рук на руки и помахав вслед автобусу, я повернулась и увидела Иосифа, который шел прямо на меня, но даже не поздоровался: «Какая прелесть!» — услышала я его восхищенный возглас при виде моего племянника. К Дите он вообще очень благоволил, всегда передавал ей приветы и с удовольствием общался. Правда, однажды — уже в Париже — сказал, что она похожа на английскую королеву, что Дита вовсе не расценила как комплимент, хотя с точки зрения Иосифа он явно таковым являлся.
Гриня, действительно, был совершенно очаровательным ребенком, но от Иосифа я совсем не ожидала такой реакции — он вовсе не был большим любителем младенцев! Так, однажды я спросила его о детях общих друзей, которых знала по Ленинграду как настоящих херувимов. Он дико на меня посмотрел и заявил с большой страстью: «Дети — жуткие!»
На публичных выступлениях Иосифа в Париже я была, кажется, трижды. Первый раз, в декабре 1977 года, он читал стихи на рю Оливье де Серр, в небольшом зале, принадлежавшем организации РХД (русскому христианскому движению). Народу было не слишком много — до Нобелевской было еще далеко — а прием, оказанный ему публикой, был, я бы сказала, вежливым. Слушателей из «отечества» вообще было тогда в Париже немного, в зале находились, главным образом, дети эмигрантов первой волны, носители громких, прославленных в истории имен. Иосиф потом говорил, что, подписывая на этом вечере книги, он ощущал себя в Дворянском собрании: сплошные Трубецкие, Голицыны и Волконские!
Про его выступление в Институте славяноведения, десять лет спустя, больше помнятся ответы на вопросы, занявшие значительную часть вечера. На этот раз Нобелевская премия была совсем близка, но все же еще не объявлена, так что огромный интерес, который проявила к Иосифу публика, носил чисто

