Я почему-то не верил, что она много пережила. Тот, кто действительно много пережил, так легко об этом не говорит. У Любы Дуняшевой переживания впереди.
— Не ты забрал его документы?
— Нет.
— И ты в них не заглядывал?
Парень недружелюбно покосился на меня:
— А зачем? Я его не по документам знал.
Солнце опускалось, косая тень от отвесной стенки вкрадчиво подбиралась к убитому, собираясь стыдливо его накрыть. Он лежал лицом к синему безоблачному небу…
«Встретьтесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня».
Расцелуйте? Осколок попал в затылок, лица нет…
Я отвернулся и зашагал к себе. Шагал и глядел в сапоги, заляпанные глиной, в белых струпьях засохшей известки…
Солнышко сидел возле радиостанции, с налившимся кровью лицом орал в микрофон:
— Фриц! Не занимай волну! Ты, гад картавый! Убирайся к чертовой матери! Прием!
Обычная история: какая-то немецкая радиостанция случайно попала на нашу волну, мешала связаться с полком. Витя Солнышко считал: уж если он работает, то эфир — его монополия.
Всякие посторонние разговоры по радиостанции строжайше запрещены, а разговоры с противником — тем более. В другое время они могли бы кончиться печально: немецкие пеленгаторы засекут — лови тогда снаряды. Раз радиостанция — значит, штаб, а раз штаб — снарядов не жалеют.
Но сейчас немцы смяты; можно представить, какая у них там суматоха и путаница — не до пеленгирования.
Витя Солнышко, увидев меня, смутился, виновато заворчал:
— Колготят и колготят, слово не пропихнешь… — И вдруг без перехода просиял: — Пляши!
Я отвернулся, шагнул в угол.
— Пляши! Видишь?
Он показал мне открытку.
— Тебе пишет, не мне… «Вы вошли в число моих друзей…» На-ка вот, ты вошел, а я нет… Пляши, не то не отдам.
Я почему-то нисколько не удивился, что открытка от Любы Дуняшевой пришла в этот день, в этот час.
«Я немного приболела, лежу, пользуюсь свободным временем, чтоб поговорить со своими друзьями. А Вы вошли в число моих друзей. Почему Вы не ответили на мое письмо? Нехорошо забывать. Встретились ли Вы с Женей? Признаюсь Вам, до сих пор меня не оставляет светлая радость, что он жив, здоров и что у нас с ним есть общие знакомые».
Всего несколько фраз, много ли напишешь на обороте открытки.
Я тогда не ответил на ее письмо. Не смог.
Через несколько дней, в селе Циркуны, я потерял свою полевую сумку вместе с дневником, с письмами Любы Дуняшевой, с коллекцией трофейных авторучек.
А еще через несколько дней, под Харьковом, меня ранило.
Но номер полевой почты Любы Дуняшевой я помнил хорошо. В госпитале несколько раз принимался за письмо к ней. Начинал и каждый раз откладывал. Не так-то просто, оказывается, сообщить о беде…
«Встретились ли Вы с Женей?» Да, встретился…
«Расцелуйте его за меня…» Нет, этого я не сделал.
Не стал я и другом Евгения Полежаева…
Я трусливо молчал, наконец забыл номер полевой почты, знаю, что он начинался с цифры «18»…
Прошло ровно двадцать лет. Двадцать!
Адреса изменились, давно заросли старые раны. Спустя двадцать лет я решился наконец выполнить долг, написать письмо.
Любовь Дуняшева, дойдет ли оно до тебя?
Похоже, что не дошло. Этот рассказ напечатали в журнале «Новый мир», переиздавали и в книге, а ответа все нет и нет. Где ты, Любовь Дуняшева?..
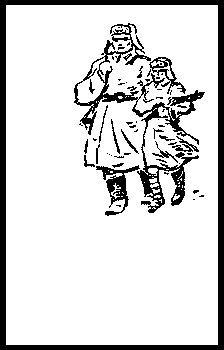
Костры на снегу
Я, необстрелянный мальчишка и наскоро испеченный в тыловой школе младших командиров радист, с маршевой ротой попал в штаб полка, занимавшего оборону. Полк был гвардейским, орденоносным, прославленным. Солдаты комендантского взвода, торчавшие у штабной землянки, с презрительным невниманием глядели поверх наших голов. И где-то на окраине степи, точно такой же, какую мы меряли целый день, — красная глина и тусклая полынь, — вперепляс, весело трещали выстрелы, глухо рвались снаряды. Вот и фронт…
В стороне среди старожилов я заметил солдата. Издалека он показался низкого роста, но почему-то рядом с ним — другие солдаты, сонная с отвисшей губой лошаденка, запряженная в полевую кухню, сама кухня вместе с дымком, заманчиво пахнущим заваренной тушенкой, — все, все кругом казалось не настоящим, а каким-то игрушечным.
Я был голоден, ловил носом дымок от кухни, далекие выстрелы волновали меня, отвлекал рокочущий командирский басок из темного лаза в землянку, решавший нашу судьбу — каких новичков в какое подразделение послать. Я не заметил, как странный солдат исчез, лошадь, кухня, повар, люди приобрели устойчиво нормальный вид. И я забыл об этом солдате.
Но на следующий вечер с ним столкнулся.
В степь в пыльном, удушливом пламени садилось солнце. И в окружении закатного огня на меня двигалось что-то громоздкое, тяжелое и несуразное, словно вставшая на задние колеса двуконная повозка.
Он шел спокойной раскачкой, и я заметил устрашающую покатость пухлых плеч, выпирающую из натянутой гимнастерки бугристую грудь, расслабленные бицепсы неестественно раздували рукава, пошевеливали вылинявшую ткань. А лицо… Казалось, взгляд вязнул в скупых рубленых складках, мясистые скулы, черные бровищи прикрывали глаза — их хватило бы на усы комбату, комроты и на взводного бы осталось.

