Ирина Бабич
Мои знакомые звери
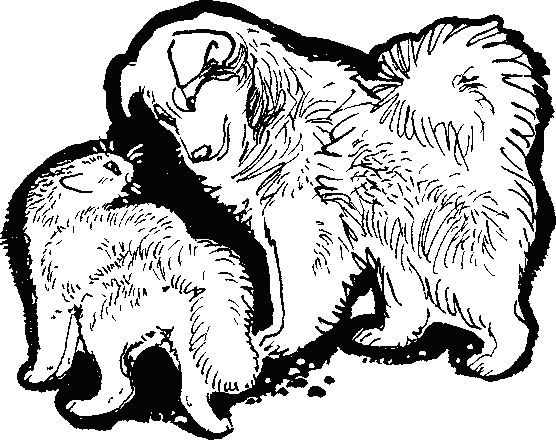
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ…
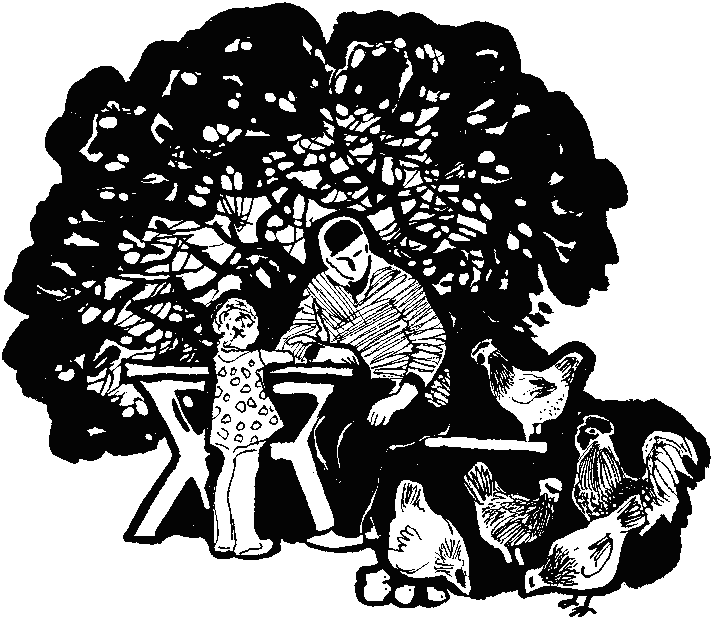
Любить животных научил меня мой папа. Он вообще научил меня многому. Например, давать сдачи — попросту говоря, драться. Он говорил, что драться надо в двух случаях: защищая слабого или защищаясь. «Первым лезет в драку дурак, а убегает от неё трус», так объяснил он мне свою точку зрения, и я запомнила её на всю жизнь.
Папа научил меня любить длинные прогулки — в любую погоду.
— Дождь — это даже лучше, — говорил он. — Смотри: тротуары блестят, как зеркало, а вокруг фонарей маленькие радуги.
А я-то раньше этого не замечала…
Папа научил меня не ябедничать. Однажды я ворвалась в дом с рёвом — мне было лет пять, не больше, и у меня во дворе рыжий Петька, по кличке Петух, отобрал роскошный красный мяч, папин подарок.
— Папа, скажи ему! — закричала я, размазывая по щекам слезы.
— Послушай, — сказал папа и нахмурился, — так мы с тобой поссоримся всерьёз. Умей сама налаживать отношения с товарищами.
Лет с шести меня стали водить на концерты серьёзной музыки, а если концертов долго не было в нашем не очень-то большом городе, папа проигрывал на патефоне с трудом раздобытые пластинки Чайковского, Бетховена, Дворжака… Он никогда не «объяснял» мне музыку — дескать, тут гарцуют кони, а тут плачет девушка…
— Ты только послушай, — говорил он, — как это прекрасно!
Я слушала. И постепенно мир звуков стал для меня понятным.
Если бы папе сказали, что он как-то там специально меня воспитывает, он бы, наверное, очень удивился. Просто он хотел, чтобы я жила по тем законам, по которым жил он сам: умела бы трудиться (он всегда напряжённо работал), умела бы радоваться (он радовался многому)… Он делился со мной всем, что сам любил. А одной из самых сильных его привязанностей были животные.
Животных папа любил всяких — мохнатых, пернатых и даже чешуйчатых. По профессии он был ортопед — врач, который лечит заболевшие кости, суставы, мышцы. Он был очень хорошим ортопедом — совсем молодым он стал профессором. Но — полушутя, полусерьёзно — он часто говорил мне, что если бы начинал сначала, то стал бы не врачом, а дрессировщиком. У него и впрямь были способности к этому делу.
Однажды у нас на балконе поселилась невесть как попавшая туда большая улитка: её витой домик, серый в коричневую полоску, мы заметили в кустиках карликовых астр. Папа тут же решил, что эта улитка останется у нас жить навсегда. В коробочку из-под леденцов он положил капустные листья, капнул немного воды и посадил туда «тётю Улиту». Наутро в листьях появились кружевные ходы — значит, папино угощение пришлось нашей жилице по вкусу. Потом папа придумал устраивать улитке купанье: наливал в плоское блюдечко воду и опускал туда Улиту. Если её не трогали, она вскоре высовывалась из домика и медленно передвигалась по дну блюдца. Папа утверждал, что эта процедура ей очень нравится. Каждый вечер он усаживался на балконе, клал в воду Улю и, пока она там нежилась, чистил коробочку и менял листья. А через неделю он показал нам «фокус-покус»: вынул Улю из коробки, поднял над блюдечком, и она сразу же высунулась из домика.
— Видали? — сказал папа с гордостью. — Дрессированная улитка.
Папа утверждал, что все животные — умные и понимают доброе отношение.
— Например, курица считается глупой, бестолковой, — говорил он. — Ну, а наша Кривоклювка?
Историю с Кривоклювкой я помнила очень хорошо. Мы отдыхали в то лето в Шишаках — маленьком селе на Полтавщине. Мы снимали комнатку в самой дальней, стоящей на отшибе снежно-белой хатке: папе нужна была тишина, папа заканчивал научную работу. Он выходил в пять часов утра в сад, где под старой грушей был врыт стол, и писал. В саду было тихо, только чирикали воробьи да ветер шелестел листами исписанной бумаги. В восемь часов мы с мамой приносили завтрак. И тотчас же к столу сбегались куры: грузные матроны-несушки, суетливая наседка с цыплятами, громогласный яркий петух. Через несколько дней папа знал всю эту компанию «в лицо». Он крошил им хлеб, бросал кусочки мяса или творога и подталкивал меня:
— Смотри, смотри! Наседка не хватает лучший кусок — цыплят зовёт. А вон тот беленький петушок, — ну, до чего задиристый, всех растолкал. Настоящий разбойник!
А однажды папа попросил меня:
— Послушай, поймай-ка мне вон ту курочку. Что-то она второй день беспокоится и не ест.
После нескольких неудачных попыток я поймала серую голенастую курочку. Оказалось, что у неё искривился клюв — концы верхней и нижней половинок не смыкались, как у всех птиц, а перекрещивались.
— Понятно, — сказал папа. — Долбанула какую-нибудь твёрдую щепку или камень. Клюв, скорее всего, выравняется, но тем временем бедняга погибнет от голода: она ведь не может ухватить ни крошки, ни червяка. Впрочем…
Тут папа отщипнул хлебный мякиш и скатал маленький шарик. Потом он сунул курочку под левый локоть, пальцами левой руки открыл клюв, а правой протолкнул туда хлебный шарик. От ужаса несчастная совсем обмякла: крылья её беспомощно повисли, а глаза закатились, как перед смертью. Но папа не обратил на это ни малейшего внимания. Он быстро катал хлебные шарики и проталкивал их в горло «пациентке». Потом он опустил на землю Кривоклювку, — мы сразу так её прозвали. Я думала, она в обмороке и упадёт. Ничуть не бывало. Едва коснувшись земли, кура немедленно «ожила» и дала тягу. Назавтра папа снова поймал её и насильно покормил. А на третий или четвёртый день мы увидели вот что: на скамейке, там, где обычно сидел папа, восседала Кривоклювка, с важным видом озираясь вокруг. И как только папа направился к ней, она тут же распустила крылья, закатила глаза и раскрыла клюв. Позже, когда она выздоровела, хитрая кура всё равно каждое утро требовала, чтобы папа кормил её с рук, и вообще бегала за ним, как собака.
А больше всех папа любил собак. И собаки — даже цепные, злющие — сразу признавали его «своим»: я не помню случая, чтобы папа, увидев собаку, не подошёл бы к ней, не приласкал бы, и ни одна собака ни разу его не укусила. Если он встречал на улице пса, который важно вышагивал на поводке рядом с хозяином, папа просто не мог пройти мимо. Он знакомился с хозяином, расспрашивал, как пса зовут, сколько ему лет, какой у него характер… Ему это было так же интересно, как любителю автомобилей рассматривать машину неизвестной марки или знатоку живописи увидеть новую картину. А вообще-то всякая собака — даже колченогая или плешивая — казалась ему красавицей.
Когда-то ещё гимназистом папа вытащил из придорожной канавы полумёртвого щенка. Этот пёс, по имени Пупсик, прожил у папы около двадцати лет. Он провожал своего хозяина в гимназию, а потом в институт, ждал под магазином или у катка… Потом у нас жила Дорти — я смутно помню её круглую в складках морду и серо-коричневую полосатую спину. Дорти была породистой — этих собак часто называют бульдогами, но на самом деле это порода боксёр. Ноги у боксёров прямые, рост высокий, уши обрезанные — торчком, а морда не такая плоская и страшная, как у бульдогов. Дорти была умницей, и папа ею гордился. Он выучил её ходить к знакомому киоскёру за газетой, приносить тапочки, закрывать дверь и даже «петь» под рояль. Но помимо всего этого, Дорти была серьёзной сторожевой собакой и погибла на боевом посту: папу попросили, чтобы Дорти постерегла больничный сад, в котором созревали фрукты, и её застрелили воры…
Потом у нас жил Тобик-первый. Папа отнял его у мальчишек, решивших сделать из несчастного щенка парашютиста. Они уже тащили его на крышу сарая, за его спиной болтался бумажный парашют, и, не подоспей папа вовремя, щенок просто расшибся бы об асфальт. Это был удивительно доверчивый пёс, который выскочил как-то в открытую дверь и не вернулся: наверное, увязался за кем-то на улице. Папа и я — мы очень о нём горевали.
Потом появился Тобик-второй. Однажды мы с папой отправились на прогулку и в самом центре города увидели пьяного дядьку. Он стоял на углу в распахнутом пиджаке и держал за шиворот крошечного щенка.
— Купи за р-рубль, кому не жалко, — орал дядька, покачиваясь. — Мне р-рубля не хватает. Купи, а то я его в фонтане утоплю.
— Не ори, — строго сказал папа дядьке. — Давай собаку! Вот так! А теперь иди проспись. Иди-иди, а то я вижу, что сюда спешит милиционер.
Самое удивительное, что дядька втянул голову в плечи и нырнул в боковую улочку. А Тобика мы принесли домой. Он был так мал, что поместился в кармане папиного пиджака. Но за полгода он вырос в мрачного кудлатого пса устрашающих размеров. Оказалось, что это настоящая пастушеская собака, и мы подарили её одному папиному знакомому — колхозному агроному, который восхищался Тобиком, а про нас говорил, что мы — мучители: держим в комнате такого пса!
В общем, собаки жили у нас дома всегда. И кошки. И рыбки. Иногда жил ещё какой-нибудь зверёк: морская свинка, черепаха или жаба. Для папы не было животных уродливых, неприятных, глупых.
— Не понимать, что всё живое прекрасно, — это просто стыдно, говорил он.
«Стыдно» в папиных устах было самым страшным приговором. Вот почему, уходя на фронт в первый же день Великой Отечественной войны, он сказал мне:
— Запомни: жить надо так, чтобы не было стыдно.
— А когда стыдно? — всхлипывая, спросила я.
И папа сразу же ответил:
— Реветь — стыдно. Думать только о себе — стыдно. Врать — стыдно. Расти человеком некультурным — стыдно. Обижать тех, кто слабее тебя, — очень стыдно. Продолжать? Или уже ясно?
…Когда человек умирает, он не уходит бесследно. Он остаётся в своих делах. И в близких людях — детях, родных, друзьях. В тех, кого научил любить то,

