секунду вскочить с места и «объявить приговор». Живописное изображение строгого судьи нетрудно связать с известной Кафке репродукцией микеланджеловского «Моисея» и с материалом, почерпнутым австрийским писателем в работе Зигмунда Фрейда «„Моисей“ Микеланджело» (1914), в которой речь идет, среди прочего, о с трудом сдерживаемом порыве Моисея, отраженном скульптором.
Намеченную в этом эпизоде линию карающего, преследующего суда Кафка продолжает в сцене в ателье у художника Титорелли: живописец работает над портретом одного из судей, включая в него и богиню правосудия, которая узнается по привычным для нее атрибутам – повязке на глазах и чашам весов. Одновременно «у нее крылышки на пятках», и в этом изображении Йозеф К. распознает и богиню правосудия Фемиду, и богиню победы Нику в одном лице. Художник продолжает работу над картиной, и женская фигура начинает напоминать богиню охоты. Кафка, в своем творчестве часто прибегавший к «визуализации» слова или определенного устойчивого выражения, в приведенной сцене превращает в «картинку» расхожее в юридической среде того времени бон-мо «сделать из Фемиды Артемиду».
Особую роль в интертекстуальном поле романа «Процесс» играют произведения Достоевского, к которым (равно как и к фигуре их автора) Кафка испытывал особенно пристальный интерес с 1912 г.[63] В первую очередь речь идет о повести «Двойник» и романе «Преступление и наказание», которые оказали значительное воздействие на замысел и реализацию «Процесса». Комментаторы произведений Кафки обнаружили значительное количество сцен, мотивов и ситуаций, свидетельствующих о «внутренней работе», которую книги Достоевского ведут в творчеством сознании австрийского автора.
В «Преступлении и наказании» складывается та ситуация «ареста без заключения» (Порфирий Петрович убежден в вине Раскольникова и объявляет ему об этом, но не имеет достаточных доказательств для помещения его под стражу), в которой с самого начала оказывается Йозеф К. Разбирательство осуществляется на нижних этажах судебной системы, в полицейском участке, расположенном под самой крышей доходного дома. Раскольникову назначено на девять, но он приходит в участок с большим опозданием. У Кафки судебная система также представлена только низшими чиновниками, а канцелярии гнездятся на чердаках доходных домов. Йозеф К. торопится на первое разбирательство тоже к девяти часам, «хотя его даже не вызывали на определенный час», но опаздывает и получает от следователя такой же выговор, как Раскольников от Ильи Петровича Пороха (любопытно, что и защитительное поведение Раскольникова столь же агрессивно, как агрессивно защищает себя герой Кафки на первом слушании). Герой Достоевского поднимается на самый верх в незнакомое ему прежде помещение по грязной лестнице (на которую отворены кухни всех квартир) и во время разговора с судебным чиновником от духоты теряет сознание (Йозеф К. долго блуждает по лестничным пролетам огромного дома, прежде чем добраться до зала, где проходит первое слушание его дела, а во время визита в судебную канцелярию тоже не выносит спертого воздуха и лишается чувств). Следователь неожиданно спрашивает героя Кафки, не является ли он маляром (у Достоевского маляр Николка берет на себя вину за страшное преступление, совершенное Раскольниковым). Порфирий Петрович просит Раскольникова – на случай, если тот вдруг решит кончить жизнь самоубийством – оставить записку. И у Кафки герой вдруг «становится на точку зрения стражи» и размышляет, что у него есть «десяток способов покончить с собой». В романе Кафки герой после объявленного ему ареста напряженно ждет, подаст ли ему руку при прощании хозяйка пансиона фрау Грубах. И Родион Раскольников обращает внимание на жест Порфирия Петровича, протягивающего ему при встрече обе руки, но не дающего ни одной.
Подобного рода схождения многочисленны и участвуют в структурировании и смыслообразовании романа австрийского писателя. При этом, вне всякого сомнения, мы имеем дело хоть и с «кровными родственниками» в литературе, однако многое этих двух писателей и разделяет. Ориентация Франца Кафки подчеркнуто экзистенциалистична, связана с новым состоянием сознания и бытия личности, с атомизацией человеческого «я» и его одичалым одиночеством. У Достоевского «я» пребывает в ожесточенной схватке с миром – против мира и одновременно за него, равно как и внутри него. «Я» у Кафки выпадает из мира, оно – вне мира, потому что мир – вне его. Мир обретает черты огромного механизма, в котором «я» целиком вовлечено в «процесс» – в процесс ощущения-осмысления собственной вовлеченности в неостановимое движение к смерти.
Кафка находится и в другой знаковой системе, связан с другим способом авторепрезентации. Достоевский ведет повествование с соблюдением определенных и достаточно жестких условностей современной ему художественной эстетики: роман выстраивается, с одной стороны, как детективное произведение, воспроизводящее подоснову и подоплеку криминалистического субстрата романов Бальзака («Отец Горио») и Диккенса (мотив расследования у Диккенса присутствует постоянно – до его кульминации в «Тайне Эдвина Друда»), и подобная жанровая конвенция требует определенной соотнесенности романного мира с внешним устройством полицейско-правовой системы, хотя Достоевский и ограничивается исключительно низовой структурой, вынося судебные инстанции за рамки повествования. С другой стороны, Достоевский как писатель существует в рамках традиции социального романа с его опорой на точность социальных, сословных, географических, климатических и т. п. характеристик. В-третьих, Достоевский блестяще владеет тем материалом и подходами, которые до него были намечены в психологическом романе («Принцесса Клевская», «Манон Леско», «Красное и черное»).
Эта многослойность и многосложность романного устройства, наложенная на новации Достоевского, ведущие его творчество в XX в., – усиление подсознательного начала, придание роману статуса «интеллектуального романа», романа борьбы идей, – усиливается и усугубляется «полифоничностью» повествования. Кафка же, равно как и авангардное искусство начала XX столетия, движется в ином направлении: его романный мир выстраивается по принципу редукции. Черты узнаваемо-объяснимой реальности представлены в сокращенной перспективе, остраненно. Мир, окружающий героя, странным образом утрачивает свою знакомость, привычную устроенность, взаимосвязанность и логичность. Моноперспективность повествования как основной прием приводит у Кафки к усилению сновидческой, зыблемой и зыбкой перспективы. Изъятие смысловых связок и целых смысловых блоков и звеньев повышает энигмативность, неопределенность и ситуации героя, и состояния окружающего мира, и чувств и намерений, реализуемых в повествовании. Эта зыбкость, эта двоящаяся картина мира (мы сознательно не используем слово «реальность» – слишком много прилагательных в случае с Кафкой надо употребить, чтобы отделить его «реальность» от реальности окружающего мира и реальности художественных текстов, связанных с прежним состоянием литературы), осложненная притчеобразностью сюжетных и речевых ситуаций в романе, а также принципом, особенно наглядно предстающим при обращении к живописной технике мастеров «Великой абстракции» Кандинского и Пикассо (деконструирование картины мира вплоть до придания ей статуса неузнаваемости и загадочной всеузнаваемости), служит у Кафки системе целей и потребностей, во многом отличной от той, что существовала у Достоевского и других его предшественников.
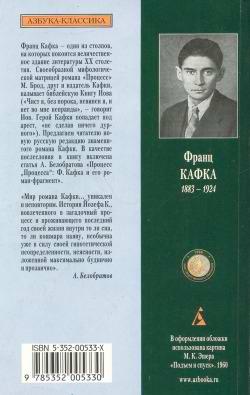
Иллюстрации: с сайта http://www.mcescher.com
Примечания
1
M.C. Escher: Balcony 1945 Lithograph
2

