Владимир Александрович Кораблинов
Кольцо художника Валиади
Черная земля под копытами
Костями была засеяна,
А кровью полита:
Горем взошли они
По русской земле…
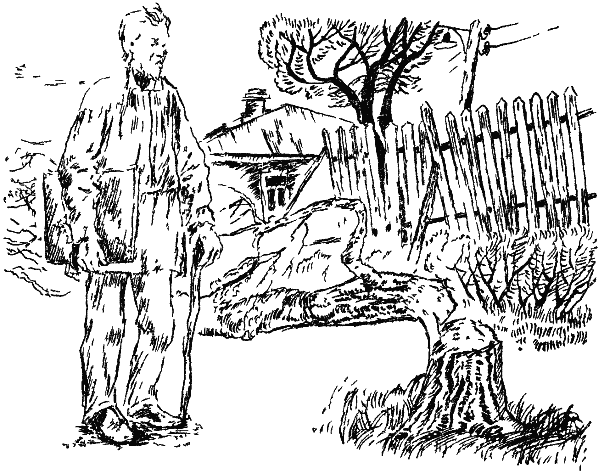
Глава первая
Энское шоссе была длинная, прямая, выложенная крупным булыжником дорога. Кое-где ее обсадили ветлами, кое-где к ней подступали реденькие перелески. Небольшие деревеньки лепились возле, вытягиваясь по обочинам. По одну сторону вдалеке белели меловые горы, а по другую – до самого горизонта – лежали, зеленовато-голубые весной и золотистые летом, поля. Там, где снеговыми тучами громоздились меловые утесы, был Дон. Среди неохватных полей вилась небольшая ямистая речка с татарским названием Юлдуз.
Каждый год, как только сходил снег, шоссе начинали чинить: возили камни, песок; сотни рабочих, стоя на коленях, тюкали молотками, заделывали бесчисленные пробоины. До самой глухой осени продолжалась эта, по сути дела, бесполезная работа: осенние дожди и мартовское половодье разрушали сделанное летом, проходило самое малое время – и дорога вновь требовала ремонта. И снова яростно матерились водители, ныряя в глубокие рытвины, объезжая по длинным логам разрушенные мосты, пережигая горючее.
Энску было не до шоссе: слишком уж война разбила и город, и прилегающие к нему села. Наконец облисполком вынес решение об асфальтировании дороги. Дружно принялись люди за работу, днем и ночью неумолкающий шум стоял на шоссе. Мощные машины с ревом вгрызались в рыжую глинистую землю, ровняя дорогу и расширяя ее. Задымили, точно по щучьему веленью выросшие в оврагах, крошечные асфальтовые заводики. Розовые, голубые зарева сияли по ночам над шоссе. Работа шла споро и весело.
Иногда дорожникн натыкались на интересные находки. Так, были выкопаны два глиняных горшка, набитые старинными монетами, ржавый, с глубокой вмятиной, шлем, полусгнившая ременная уздечка, украшенная серебряными бляхами с монгольскими письменами. Дорога была старая.
А однажды возле погорелой деревушки Ямище, где бульдозер выравнивал какие-то похожие на болотные кочки холмики, были найдены человеческие кости, череп и железное колечко. Кости и прежде не раз встречались, и не они привлекли внимание дорожников. Колечко их заинтересовало. Рабочие окружили нашедшего кольцо бригадира, брали находку в руки, разглядывали, удивлялись необыкновенной форме: кольцо изображало двух гонящихся друг за другом собак.
– Не сам ли Батыга потерял? – пошутил кто-то.
– Батыга не Батыга, – сказал бульдозерист, человек пожилой и серьезный, – а вещь, безусловно, старинная.
– Нет, правда, – не унимался шутник, – я слыхал, будто он этой самой дорогой ходил.
– Тут, брат, и похуже твоего Батыя хаживали, – сказал бульдозерист. – С местными жителями поговори, они тебе скажут.
– Чего – местные жители! – усмехнулся бригадир. – Я аккурат в сорок втором сам в этих местах воевал, знаю… Распроклятая это для русского человека дорога была. Сколько по ней фрицы нашего народу прогнали – нет числа! Тут, ребята, каждый камушек горючей слезой полит…
Он спрятал колечко в карман спецовки и не спеша зашагал в сторону села. Бульдозерист вздохнул, покачал головой и пошел следом.
– Колечко-то, – сказал, – в музей бы надо предоставить. Может, ему и цены нету…
– Да вот завтра все равно в город ехать, – отозвался бригадир. – Забегу, конечно, отдам.
Красноватая полоска зари мерцала за белыми срубами строящейся заново деревни, обещая на завтра ветреный день. Глубокие синие тени ложились в поросшей чернобыльником котловине. В Ямище пригнали стадо, розовая пыль стояла над деревней. Легкий ветерок поднялся, подхватил розовое облако и, развеивая пыль, понес его в степь, туда, где серой лентой убегало вдаль шоссе и чернел одинокий столб с дорожным знаком и надписью: «До города Энска 24 километра».
Глава вторая
В этом самом городе Энске – зеленом, уютном, древнем (он не раз упоминался в отечественной истории) – жил в довоенное время старый художник, коренной русский человек, носивший бог весть почему греческую фамилию – Валиади.
С крутых бугров, на которых был расположен город, далеко – до туманного горизонта – виднелась степь с неширокой, извилистой рекой. Возле Энска река растекалась на множество стариц и затонов, образуя в месте их слияния как бы громадную лучистую звезду. Чахлые перелески пестрели среди яркой желтизны полей; белыми каменными идолами торчали еще уцелевшие кое-где колокольни.
Семьсот лет назад по этой степи и в самом деле кочевали монголы; многое повидали древние, торчащие круглыми шапками курганы, о многом могли бы они рассказать. Но не было тут тогда ни города, ни частых деревень, на сотни верст лежала одна дикая, голая ковыльная степь… И так, во всей дикости, еще три века покоилась безлюдная степь, пока по царскому указу не был построен городок и деревянная крепость при нем, чтобы «глядеть ногайцев».
В конце семнадцатого столетия сюда прискакал юный, голенастый, с бешено вытаращенными глазами царь Петр и приказал сгонять окрестных мужиков на великое корабельное строение.
За долгое время своего существования город хлебнул всякого: его и черкасы жгли, и народ бунтовал против лихоимцев-воевод, и петровские пушки палили в честь новых, спущенных на воду кораблей. Дважды сгорал дотла, и гладу было принято и мору – не счесть, но выстоял, и все рос да разрастался, и к середине прошлого века это был уже довольно большой губернский город со своими «Ведомостями», двумя гимназиями, со знаменитой на всю Россию конской ярмаркой, богатым монастырем, круглыми торговыми рядами и даже очень порядочной книжной лавкой.
Жизнь здесь шла ни шатко ни валко, потихонечку – от ярмарки до ярмарки, от богомолья к богомолью. Впрочем, и то и другое совпадало во времени: и торг, и обнесение мощей происходили в середине августа. В эти дни город кишел народом. Колокольный звон, рев архиерейских певчих, вопли кликуш, ржанье лошадей, скрип тележных колес, слова молитв и крепкая матерщина, – все это в течение десяти дней висело над городом. Но постепенно затихала ярмарка, допевались последние молебны, разъезжались конские барышники, в разные концы России расходились богомольцы… И снова всё погружалось в полусон да так в тягучей дреме и жило до следующей ярмарки, до следующего богомолья.
Вот таким-то тихим, ленивым, дворянско-купеческим город просуществовал до семнадцатого года. Вскоре после Октябрьских событий впервые появился в нем тот художник, о котором пойдет речь.
Он был тогда еще далеко не стар. Огромный, с реденькой пшеничной бородкой, с руками грузчика, с горячими синими глазами, пронзительно глядевшими из-под косматых бровей, он сразу выделился среди горожан. Все в скором времени признали его, привыкли к нему, даже полюбили, хотя он никому в друзья не напрашивался, жил замкнуто, ни у кого не бывая и появляясь лишь на рынке с камышовой кошелкой или в тихих старинных закоулках города – с большим холщовым зонтом, этюдником и раскладным стульцем.
Он привез с собою жену, но ее никто не видел. Соседи рассказывали, что она «неходь», что, приехав с вокзала, художник снял ее с пролетки и внес в дом на руках. И что она не по нем была – крошечная, в чем душа держится, и это служило первое время предметом обывательских россказней и пересудов.
Многие удивлялись замкнутости художника, она их раздражала, ибо ничто так не злит обывателя, как люди, незнающиеся ни с кем, живущие сами по себе, в особицу. И, может быть, кому другому и досталось бы от соседей за такое отщепенство, но, видно, было что-то в художнике, с чем обыватели мирились и не только не ненавидели его, но даже уважали и словно бы побаивались.
Глава третья
Так прожил художник в Энске двадцать с лишним лет.
Он стал для города своего рода достопримечательностью. Исчезни он вдруг – и это было бы все равно, как если бы исчез памятник Петру или старинный, с петровских времен уцелевший, темный, приземистый дом адмиралтейства.

