Николай Наволочкин
Амурские версты
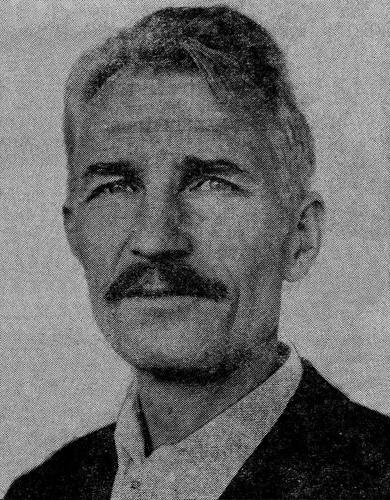
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1857 год
«Как от Шилки по Амуру
Великие версты:
Ох, достались эти версты —
Стерли у рук персты…»
(Забайкальская песня)
Дед Мандрика, малолеток пятой Усть-Стрелочной сотни, грелся на майском солнышке с годком своим и соседом Пешковым Кузьмой, бывшим служилым казаком той же сотни Забайкальского казачьего войска. Посасывали деды пустые, без табака, медные богдойские трубочки, выменянные в молодости в один и тот же день у богдоев на летней ярмарке. Отвалили они в промен по глупости за каждую трубку по медному сибирскому пятаку, чеканенному еще, может, лет сто назад при матушке Катерине. Отвалили и, хотя с тех пор состариться успели, по сей день жалеют. Пятаки эти и гривенники медные с двумя соболями на одной стороне и вензелем царицыным — на другой, потом в цене поднялись. Приезжие заамурские торговцы и на здешней ярмарке, что таборится раз в год возле Усть-Стрелки, и на большой ярмарке у Горбицы, и даже в такой дали, как Старо-Цурухайтуевский караул, ценить их стали дороже серебра. На них можно сменять и ханшин, и буду, и огниво, и табачок. Хотя табак ныне обоим казакам ни к чему. Нутро уже не принимает дыма, обратно его кашлем выгоняет. Оттого посасывают старики пустые трубочки, благо в них вроде бы дух табачный сохранился. Должон, конечно, остаться.
Последний раз раскуривал Пешков свою трубку на зимнего Николу, когда отлежался немного после экспедиции прошлого года. Натерпелись тогда солдаты и казаки, поморозились, изголодались, а многие от тифа да простуды без причастия богу душу отдали. А все из-за его высокоблагородия Облеухова, чтоб ему на том свете ни дна ни покрышки, с отрядом которого ходил и Пешков. Но он еще легко отделался. Как раз под Николин день поборол казак простудную горячку. И хотя от слабости еще вставать не мог, сам набил обмороженными пальцами трубку и табак не просыпал. Правда, устал после этого, аж вспотел. Попросил дочку Настю высечь искру, затянулся и зашелся кашлем. Попробовал еще раз — нет, не идет табачок. С того разу и распрощался казак служилого разряда участник двух сплавов по Амуру Кузьма Пешков с куревом. Но трубочку хранит. Пососешь ее, потянешь и вроде где-то внутри легчает.
Мандрика бросил курить раньше и, можно сказать, от обиды. Провожали в ту пору первый сплав. Когда же это было? Может, в тот год, когда переселились в Усть-Стрелочную казаки из Цурухайтуя и привезли с собой невиданную доселе на карауле животину — свиней и баранов. Сейчас смешно вспомнить, а тогда переполошились в станице все от мала до велика. Бегали к дому нового сотенного командира посмотреть, какие такие свиньи бывают и что это за бараны? Старухи, те отворачивались и крестились, когда мимо случалось проходить, и ребятишкам строго наказывали, чтобы не шастали у сотниковых ворот и не смотрели на эту пакость. Да оно и простительно. До той поры казаки в Стрелке скота и пашен держали мало, только и были у казаков кони. Больше охотой жили и рыбалкой. Шкуры изюбрей и лосей меняли в деревнях на хлеб, пушнину продавали в Шилкинском заводе купцам и там, что надо, на целый год покупали.
Вот с того лета и начались перемены в устоявшейся жизни казаков. «Значит, сплав-то первый прошел не в тот год, а попозже», — соображает Мандрика.
— Это когда же, паря, первый сплав был? — спрашивает он у соседа.
Пешков засовывает трубочку в рукав теплого халата, смотрит слезящимися глазами на берег, где стучат добрыми топориками Петровского завода линейные солдатики, и считает на узловатых пальцах: «… одно лето плыли до Николаевска; в другое возвращались; потом, выходит, пошел с полковником Облеуховым, с 13-м линейным батальоном, где и захворал. А теперь вот новое лето — одна тысяча восемьсот пятьдесят седьмой год. Выходит, первый раз сплавлялись в пятьдесят четвертом». Пешков хитро щурится и говорит:
— Ежели ты, сосед, запамятовал, когда тебя Эпов по уху огрел, то в пятьдесят четвертом!
— В пятьдесят четвертом, — согласно трясет сивой бородкой Мандрика и вспоминает, какая суета была непривычная в ту весну, будто наступило светопреставление. Всю реку покрыли паромы и баржи с казаками и солдатами. И не думали никогда, и не чаяли станичники, что может в одном месте собраться сразу столько людей, что шум такой может быть в тихой Усть-Стрелке, где допреж стояло всего двадцать пять домов. Это нынче срубили сотенное правление, цейхгауз для оружия, хлебный магазин да новые жилые дома.
Бойкие казачки пытали у солдат: «Откуда вас столько берется?» На что солдатики отвечали: «Э-эх, молодка! Известно откуда — солдат солдата рожает!»
Но больше всего поразил станичников, конечно, пароход «Аргунь». Придумает же человек такое чудо! Дым из его высоченной трубы валил на берег и на казацкие избы, как при осеннем пале. Ревел он, пугая коней, сиплым гудком, так, что за много верст по реке слышно было. Испуганные эвенки — лесные охотники — после рассказывали, что, услышав гудок, они откочевали подальше в тайгу — думали: черт.
А как отваливать сплаву пришлось, все суетились и орали до хрипоты. Бабы-казачки от плача обезножили. Виданное ли дело — в неведомую даль, в далекие земли провожали они кормильцев и большаков сыновей. А когда вернутся, никто не знал — ни сотенный Усть-Стрелочной командир зауряд- хорунжий Богданов, ни командир сводной сотни, что отправлялась в путь, — зауряд-сотник Скобелицын. Одно было приказано отъезжающим в поход казакам: обмундирование и провизию готовить на два года.
Прежде, бывало, ревели бабы, когда провожали казаков на учения в Цурухайтуйскую крепость. И она, казалось, стоит в несказанной дали — пять сотен верст до нее, а до того Николаевска, куда плыли теперь мужики, может, две, а может, три и более тысячи верст. А главное, там, мол, и есть край света.
Немудрено, что ревели бабы, и по делу и не по делу орали начальники, казаки и солдаты. И когда пришло время «ура» кричать и «рады стараться», то многие уже не кричали, а хрипели. Только один Мандрика сидел на бережку, на еще не просохшем от утреннего дождя этом самом бревне, на котором они сейчас греются с годком Пешковым. Сидел и трогал горячее ухо, потому что ударил его в сутолоке урядник Васька Эпов. Съездил наотмашь, привык, вишь, бить служилых казаков на ученьях.
Из пожилых в малолетках теперь остался один Мандрика, а раньше, до перемен, что начались с приездом нового губернатора его высокопревосходительства Муравьева, многие в малолетках ходили до старости. Служилых казаков тогда требовалось немного, и всех, кто не попадал в строй, считали малолетками. Обмундирование и жалование они не получали, провиант им хоть и шел от рождения, но половинный.
Это уже при Муравьеве всех малолеток до пятидесяти пяти лет заверстали в служилые. А Мандрика остался по годам. Зато послали его заготовлять лес для плотов. Вернулся в станицу, когда сплав провожали в путь. Стоял в толпе у воды, вместе с другими станичниками и бабами, смотрел, как сводная сотня строится, чтобы на плоты грузиться. А тут на «Аргуни» оркестр Иркутского полка грянул в четырнадцать медных труб. Дуры бабы к самому строю кинулись и Мандрику с собой поволокли. Ну и рассвирепел урядник Васька Эпов: «Так вашу, паря, ети! Куды прете! И ты туда же, малолеток! Не вертись под ногами!» И влепил Мандрике оплеуху.

