самого деморализующего, самого зловредного влияния на тех, кто в них содержится, причем это пагубное влияние усиливается именно в том направлении, в каком происходило первоначальное развитие болезни. Это вдобавок осложняется тем, что любое возражение, любой протест, любой жест нетерпимости приводит лишь к тому, что вас причисляют к разряду антисоциальных личностей (ибо как это ни парадоксально, от вас требуют быть социальными в такой сфере), вашей болезни приписывают новый симптом, это, естественно, не только мешает вашему выздоровлению, которое могло бы произойти при других обстоятельствах, но и не позволяет вашему состоянию стабилизироваться, провоцируя его стремительное ухудшение. Оттого и происходят те трагические скоротечные эволюции в сумасшедших домах, эволюции, которые являются не только эволюцией болезни. Настало время разоблачить процесс этого почти фатального перехода душевных болезней от острой формы к хронической. Принимая во внимание своеобразное и запоздалое детство психиатрии, говорить о лечении, проводимом в подобной обстановке, невозможно ни на каком уровне. Впрочем, я думаю, даже самые добросовестные врачи-психиатры об этом не заботятся. Действительно, ведь больше не существует, в том смысле, в каком мы привыкли понимать, насильственного заключения в психиатрическую больницу, поскольку в основании всех этих заключений, в тысячу крат более ужасающих, лежит акция, которая носит объективно ненормальный характер, однако ее называют преступной лишь с того момента, как она становится принадлежностью общественной сферы. По-моему, любое заключение в психиатрическую лечебницу является насилием. Я никак не могу понять, почему человеческое существо лишают свободы. Они заточили Сада, Ницше, Бодлера. Застать врасплох ночью, надеть смирительную рубашку или подавить вас иным способом — такое обращение достойно приемов полиции, которая сама подсовывает револьвер вам в карман. Я уверен, что если бы я был безумным и на несколько дней помещен в лечебницу, я бы воспользовался
Мое презрение к психиатрии вообще, к ее внешнему великолепию и достижениям, столь велико, что я так и не решился осведомиться, что же сталось с Надей. Я объяснял, почему склонен пессимистически оценивать ее судьбу, так же как и судьбу многих созданий ее типа. Если бы ее лечили в частной клинике со всей обходительностью, что расточается богатым, если бы она не страдала от тесноты, которая могла ей повредить, но напротив, если бы ее поддерживали в соответствующее время дружеским участием, максимально возможно удовлетворяли ее запросы, она была бы незаметно возвращена к приемлемому чувству реальности; а для этого необходимо, чтобы с ней ни в чем не допускали резкости, не оказывали никакого давления и заставили бы ее саму осознанно вернуться к истоку своего расстройства, — я, может быть, спешу, — несмотря ни на что, все позволяет мне верить, что она выбралась бы из этой дурной истории. Но Надя была бедна, а этого в наше время достаточно, чтобы вынести ей приговор, с той самой минуты, как ей вздумается играть не по правилам с дурацким кодексом здравого смысла и благопристойных нравов. Она была к тому же очень одинока: «У меня из друзей есть только вы», — говорила она моей жене по телефону в последний раз. Вся ее сила и величайшая слабость, какая только может быть, соединились в единственной постоянной идее, которую я вдобавок слишком культивировал и которой помогал возобладать над другими в ее душе. Ибо та свобода, завоеванная ценою тысячи самых трудных отказов, требует, чтобы мы наслаждались ею без временных ограничений, без каких-либо прагматических соображений потому, что именно эмансипация человека, понимаемая в самой простой революционной форме, то есть не менее чем человеческая эмансипация

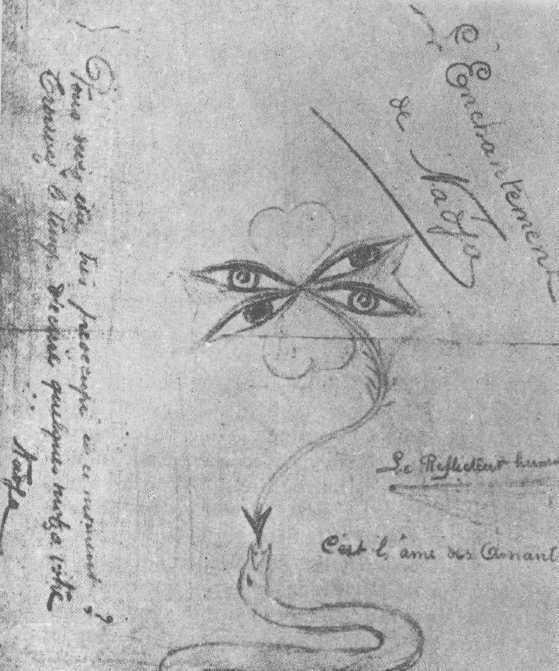

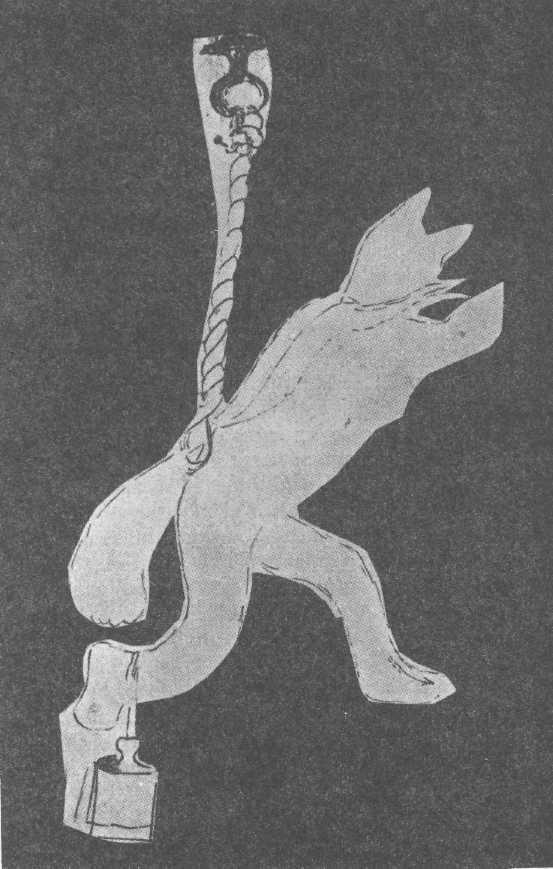





Примечания
1
Немного позже Кирико в значительной мере удовлетворит это пожелание (1962).
2
Страсть новая, войди в него (вариант).
3
Настоящее их авторство было установлено лишь 30 лет спустя. Только в 1956 году журнал «Сюрреализм, все-таки» смог опубликовать полный текст «Сдвинутых» с послесловием П.-Л. Пало,

