Непросто пришлось при господарском дворе Иззету-бею. Попы чуть было не испортили дела. Принялись за господаря: им, дескать, ведомо, что Бедреддин не простой басурманский шейх, а еретик, смешавший смуту религиозную со смутой имущественной. Намерен-де объединить все земли, смешать все веры. Поносит и государей и священнослужителей без различия вер и народов. Господарь не поверил. Плевать, говорит, мне на его ереси — это ваше дело. С меня достаточно, что он враг султана. Не поверил, конечно, им и Иззет-бей.
Бедреддин видел: червь сомнения гложет воеводу. Сказал:
— Напрасно.
— Что напрасно, мой шейх?
— Не поверил напрасно.
Иззет-бей потерял голос.
Бедреддин принялся объяснять. Вот Иззет-бей два года прожил с христианами. Многим ли отличаются их добрые люди от добрых мусульман, а злые — от злых? Молятся иначе. Но разве не тому же самому богу? И господа у них разве не так же помыкают крестьянами, как у османов? Не приходило ли ему, Иззету-бею, как честному, добропорядочному человеку, в голову, что негоже рабам Аллаха владеть такими же рабами, как они? Не смущало ли это его сердце?
Иззет-бей слушал, вроде все понимал. Но чуял Бедреддин, не достигают его речи до нутра, ложатся сверху. Не пошел с ним Иззет-бей. А как был нужен им умелый честный воевода, как нужны опытные ратники. Ведь предстоит схватиться с отборным султанским войском. Без закаленных опытных бойцов против него не устоять…
Подошли широкие, словно утюги, баркасы. Погрузились. Едва отошли, как теченье подхватило, понесло. Гребцы с трудом справлялись. А Бедреддин глядел на упругие мутные струи, на водовороты и думал: «Пусть не воеводы, пусть рядовые сипахи. Пойдут ли? Насколько можно им доверять? До какого предела?»
На правом берегу стояла знакомая фигура Акшемседдина. Ожидал их вместе со своими людьми. Бедреддин прижал его к груди.
По очереди обнялся Акшемседдин, сияя, с Маджнуном, с суданцем Джаффаром, с Дурасы Эмре. Поклонился остальным.
— Сейчас же в путь, учитель! В Силистру не заедем… Повсюду соглядатаев султанских полным- полно. В деревне Рами Ишиклар нам будет безопасней.
В деревню прибыли безлунной ночью. Она встретила глухими стенами домов, глухими высокими, выше головы, обмазанными глиною плетнями, истошным лаем собак.
Поместились в доме почтенного Абдулькадира-аги. То был один из свойственников Бедреддина, что не простил османским султанам убийства Хаджи Ильбеги и забвения заслуг их доблестного рода.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Два стана
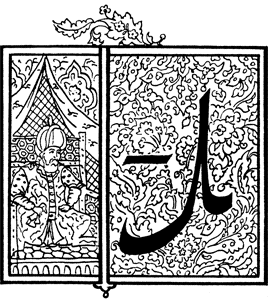
— Лексей! Лексей!
Он оглянулся. На зеленом берегу стояла мать. Ноги босы, на голове платок. Молодая.
Он прыгнул с плота. Тело обожгло холодом. Замолотил саженками, боясь не успеть, зная, что не успеет, что больше никогда не увидит ее. Черная тугая вода делалась все вязче, покуда не сковала его, точно муху — смола. Ни рукой шевельнуть, ни ногой.
— Лексей! Лексей!
Он долго не мог понять, где и что с ним. Подмастерье Стоянка снова тронул его за плечо:
— Майстере Лексей. Скоро восход!
Он подхватился с постели, натянул порты.
Проклятущая старость. Всю ночь глаз не сомкнул, боясь проспать. А перед рассветом как под воду провалился. Взял в углу приготовленный с вечера узел, суковатую палку и, припадая на правую ногу, вышел во двор. Небо над вершинами грабов и ясеней, сплошной стеной окружавших деревню, заметно посерело. Лаяли собаки на дальнем конце.
Волкодав Карабаш при виде хозяина оскалился в улыбке, опустил свою черную башку, завилял хвостом.
Он отвязал пса. Глянул на подручного:
— Ничего не запамятовал?
— Все тут!
Парень кивнул на перекидной мешок, висевший через плечо. Алексей позавидовал: силен! И мехи, и малую наковальню, и молотки взвалил на закорки. А до места не меньше трех верст. В его годы И Алексей, тогда кузнечный подмастерье, был не слабже. Кулаки — что детские головы. Молотил ими нещадно, когда сходились на берегу Протвы стенка на стенку верейские ребята с разных концов. Грех жаловаться и сейчас, на седьмом десятке. Если б не нога…
Впервые увидел он во сне мать. Впервые пожалел об увечье. Матери он обязан жизнью, увечью — свободой. Выходит, сон был в руку.
На околице возле дервиша Ибрагима собралось человек двадцать — болгары, турки, валахи и один он, русич. Да полно, что в нем осталось-то от русича? Что помнил он о своей родине?
Обильные зверьем сосновые боры на той стороне Протвы, за посадами. Ольховые, березовые чащобы на высокой стороне. Плоты, сплавляемые на Оку, в Коломну, — с них ловко было удить рыбу. Наплавной мост — через него шла дорога на Москву. Детинец на обрыве Кузнечной горы с деревянными башнями, с водяными рвами. Звон железа, долетавший с крутого Кузнечного взвода, — там стояла и кузня отца. Соседскую девку — имя, лицо ее, губы, цвет глаз позабыл. Шутка ли, полвека прошло. А вот взгляд, улыбку — как сейчас видел…
Дервиш Ибрагим велел ждать — пусть маленько раз-виднеется. Ибрагима в деревне Мумджилар знали хорошо. Мумджилар по-болгарски — Свещары, означает «свечники». Крестьяне здесь и плотничали, и уголь жгли, и смолу гнали, но главным промыслом считались сальные свечи. За ними и приходил два раза в месяц дервиш Ибрагим для своей обители.
Много стояло по окрестным лесам дервишеских пустыней и келий. Еще до османов стали здесь селиться мятежные еретические отцы — «деде» и «баба», или, как еще их звали, «ишиклар» — «светочи». Хоронились, спасая свое тело от катовых топоров, душу — от мирской неправды. Учили: бог не в мечети, не в церкви, а в сердце, труд — первая доблесть перед богом, кровопролитие — сатанинская радость. Не чурались ни вина, ни музыки. Женщины в их собраньях сидели с открытыми лицами. Уважали православные святыни, не велели обижать христиан. Черные люди их любили, несли немудреные дары свои — хлеб да солонину, шкуры да лапти сыромятные, кто что мог. И не раз прибегали к защите дервишеских обителей, ежели доводили до крайности лютые господа — турецкие сипахи, греки-фанариоты, болгарские чорбаджи.
В одной из таких обителей приютили и выходили его, когда конем покалечило ногу. Не то давно сдох бы с голоду, сгинул, как не был, старый мастер Алексей.
Светало. Из мрака отчетливо выступили глухие дувалы, окружавшие дома. На темной траве, покрывавшей улицу, стало видно серую наезженную колею. В крайнем дворе звякнул коровий колоколец.
— Пора!
Дервиш Ибрагим поднялся, повел всех к лесу.
Стеной стояли говорливые на ветру ясени, заросли кизила, перевитые поветью грабы — болгары зовут их габрами. Старик хромал, стараясь не отставать от подмастерья, упершись взглядом в его спину. Слева от тропы, навострив уши, принюхиваясь к земле, бежал Карабаш. Прохладно и темно было в лесу, как

