ездил в пионерский лагерь и очень боялся, что кто-нибудь подумает, что я влюблен в Лену Нашатынскую. Ответ я получил из Министерства здравоохранения, где говорилось, что я правильно ставлю вопрос о раннем созревании подростков.
Поэтому, дорогой Николай Иванович, вы уж извините, что я докучаю вам, но так уж получилось, что вы оказались единственным для меня человеком, с кем я могу говорить, легко и откровенно.
На этом писать кончаю. Желаю вам всего доброго. С уважением, Киселев».
Киселев сложил листок в четвертушку, вложил в конверт, заклеил, написал адрес: Парковая, дом 8, Киселеву Николаю Ивановичу – и пошел на улицу к почтовому ящику.
О дворе автора
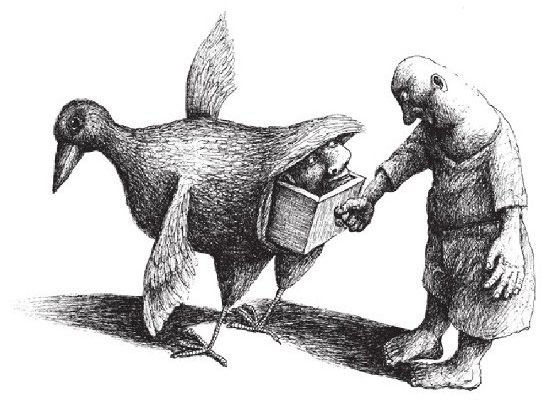
Мать у них умерла, отец работал с утра до вечера. Пожалуются ему бабы на его сыновей: Вовку старшего и Петьку младшего, даст он вечером каждому по подзатыльнику – вот и все воспитание. Мрачный… плохо ему было без жены. Каменный стал какой-то.
Петька изобретательством занимался, то взорвет что-нибудь, то заставит малышню взяться за руки, крайнему проводок в руку от динамо-машины, крутанет ее – ток по всем пройдет, все взвизгнут, а он: «А если вы попадете в плен и вас будут пытать?!» В Музее революции, как уж ему удалось, стащил саблю, доказывал, что ею было срублено 25 тысяч голов, давал всем трогать лезвие, кое-кому порубить стропила на чердаке. Носил ее в штанах – сатиновых шароварах, тогда почти все в таких ходили, отчего одна нога у него не сгибалась, и он выглядел героем-инвалидом гражданской войны.
Носить оружие в портках долго невозможно, и не потому, что неудобно. На второй-третий день после кражи он уже бегал с саблей наголо по Уланскому переулку, за ним бегала малышня, и все кричали: «Ура!» Даже для нашего переулка это было уже слишком. Петьку отвезли на коляске, милиционеры тогда на мотоциклах с колясками ездили, в 61-е отделение. В одноэтажном домике, справа от Тургеневской библиотеки оно было.
Отпустили Петьку вечером, ночевать он домой не пошел, спрятался на чердаке, не там, где мы рубили стропила и откуда нас выгнали жильцы верхнего, пятого, этажа, а на чердаке тетипаниного двухэтажного дома, куда прямо в слуховое окно вела ржавая металлическая лестница. Отец его постоял у лестницы, крикнул вверх: «Слезай, я тебе уши оборву!», а кто ж на такое предложение согласится? Два дня Петька ночевал на чердаке, мы ему, как герою-партизану, таскали туда хлеб, сахар. Днем Петька вылезал из убежища, что-то покупал в ветеринарной аптеке на Кировской, смешивал, взрывал. Деньги не воровал: сдавал макулатуру, бутылки…
А вот его старший брат Вовка, тот всерьез связался со шпаной и, когда ихнюю банду арестовали, успел куда-то исчезнуть. Было ему, если Петьке лет тринадцать, то Вовке – шестнадцать или чуть больше.
И потекла жизнь дальше, и при всяком новом проступке Петьке говорили и бабы, сидящие у подъезда, и мужики, дубасящие в домино: «Вот смотри, пойдешь, так же как твой брат, по тюрьмам!»
И каково же было всеобщее изумление, когда в один летний день во двор вошел Вовка! Он шагнул из темной подворотни в солнечный двор, как на сцену, высокий, веселый и в морской форме! Его сразу окружили мальчишки, девчонки, подошли осторожно бабы и, сложив на груди руки, сначала с недоверием, а потом с удивлением, а потом и с гордостью – вот какие люди выросли в нашем дворе! – слушали его рассказы. И мужики, оставив на столе фишки домино, тоже подошли; кто-то из пацанов освободившийся стул притащил и подставил Вовке. Он сел, достал пачку «Казбека», а эти папиросы курили начальники и уважающие себя мужчины, постучал по крышке мундштуком, не торопясь закурил и продолжал повествовать под вздохи и ахи баб, под: «Ну надо же!», «Не может быть!»
Дядя Вася Печенкин вставил было: «А мы уж думали, ты в тюрьме!», но Вовка не обратил внимания; нога на ногу, выпуская кольца дыма, он рассказывал про акул, одну из которых он чуть не поймал, про кита, который чуть не опрокинул их шлюпку, про туземцев, которые чуть не поджарили его на костре, про шторм, который выбросил их корабль на острые рифы. Слова «компас», «зюйд-вест», «ватерлиния» летали в воздухе нашего двора, как дивные птицы.
А потом Вовка вдруг быстро поднялся и ушел через заднюю арку, а из передней во двор вошли наш участковый капитан Хоботов и какой-то взволнованный дядька. Оказалось, что Вовка в фотостудии, она была на Сретенке на четвертом этаже, надел морскую форму, чтобы сфотографироваться, и в ней заявился в свой двор…
Бабы, повздыхав и поохав, вернулись в свое привычное миропонимание, мужики поухмылялись и принялись с еще большим старанием стучать костяшками домино, а я уже больше полувека не могу забыть: тот день. И… по-детски горжусь, что у нас во дворе жили такие люди!
Свет в окне

Жили-были муж и жена. Он писал стихи, она смотрела ему в рот, он жаловался, она внушала уверенность. Ему в его силы. У него не получалось, он винил ее, потому что она под боком и далеко не надо ходить, чтоб выплеснуть свое недовольство. Она винила себя, вспоминая, что тогда-то надо было сказать то-то, а вот тогда непременно – как же она не догадалась! – сделать то-то, и все было бы хорошо: его бы признали, печатали, и они наконец зажили бы счастливо, ну, если не счастливо – достойно уж точно. Достойно его таланта и ее любви.
А потом они развелись, подвернулась ему смазливая дурочка, а потом другая – два раза женился, как цеплялся за соломинку, а соломинки, выяснялось, цеплялись за него, он ведь изображал из себя крепкую личность, и знакомые у него все знаменитости и успешные, а ему они: Петьки, Саньки, Таньки. Придет дурочка с ним в ЦДЛ, хлопает глазками, ходит тихо, боится, как бы слова глупого не сказать, а слов глупых, оказывается, там водопады! Вот поди и разберись!
На третий раз ему повезло. Если в предыдущие разы умудренные папы-мамы терпеливо воспринимали не новенького зятя, дочкам своим потакали в их заблуждении, третий тесть не потакал – за горло взял. Купил квартиру, машина у дочки была и неплохая, справил свадьбу не широкую, но солидную, и сказал с чугунной угрозой: «Не балуй, я этого не люблю». И он, наш поэт, баловать перестал. На должность с тестиной помощью устроился, их много, этих должностей, появилось в девяностых, если свой человечек – будет тебе должность! Только верно служи хозяину. Свой карман набивай, а в его – не гляди!
И он служил, толстенький стал, гладенький, наденет костюм за две тысячи долларов, иначе при его работе нельзя, а пуговка средняя на пиджачке не застегивается, вот недавно еще застегивалась, а вот уже, чтоб застегнулась, животик втягивать приходится. В фитнес-клуб не хочется, а ходить надо, диету соблюдать. Проблемы…
А как же она? Горевала неутешная, что греха таить – покончить жизнь самоубийством собиралась. Квартирка-то у нее на 12-м этаже, выйдет вечером на балкон, смотрит вниз, а там – деревья, был бы асфальт, может, и решилась бы, а так – деревья, а если смотреть вдаль – огни, огни… окна светятся, а за окнами люди разные: семейные, счастливые или вот, как она, в тоске.
И невзначай получилось, в апреле это было, взялась она представлять, как живут эти люди: ругаются, милуются, детей воспитывают и… вроде теплее на душе стало, будто они ей все близкие, чуть не родные. Представит, потом забудет, а потом, чтоб не забыть, записывать начала, да так ловко: и с сочувствием и с улыбкой. И к концу года, а писала она самозабвенно и хватко – характер-то упорный! – налепила рассказиков с полсотни, и название сразу нашлось, будто с потолка упала строка из песни известной «Вот и окна в сумраке зажглись…».
А жизнь уж так устроена, если у пьяницы денежка в кармане появится – обязательно собутыльника встретит. И наша писательница шла по Мясницкой и Кольку встретила, свидетелем на свадьбе у них был, тоже когда-то писал, а теперь редактором в издательстве, как выяснилось. Седина уж в волосах, а взгляд такой же грустно-снисходительный, словно живет он на свете не сорок, а три тысячи лет. Слово за слово, хотя какие это слова – фантики без конфет: «Как дела?» – «Нормально. А ты?» – «Нормально». И что удивительно, если бы она знала, что он в издательстве, – не сказала бы, самолюбивая очень, а тут возьми и брякни, чтоб не показаться женой брошенной, дурой безмозглой, на вопрос: «А что сейчас делаешь?» – «Книгу написала». «Ну так покажи», – сказал свадебный свидетель.
Наутро, февраль был – мело, мело… Понесла она рукопись в издательство. И пока несла, то ей казалось, что она написала нечто великолепное, то – дрянь. Отнесла и готова была уже сквозь землю провалиться от стыда, а ее через недельку позвали договор подписывать. И летом, в июле, книжка вышла. Ладненькая на вид и с фотографией на обложке.
Надо сказать, фотографию она подбирала долго: здесь слишком молода, тут тень под глазами, а на

