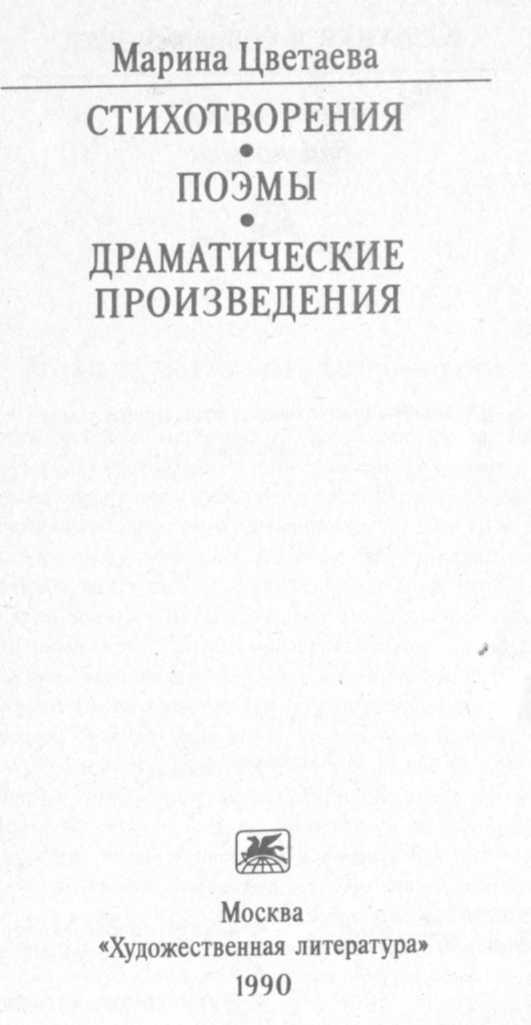
СТИХИ НЕ МОГУТ БЫТЬ БЕЗДОМНЫМИ..
Когда кончается материнская беременность нами, начинается беременность нами — дома. Мы еще не совсем родились, пока барахтаемся в его деревянном или каменном чреве, протягивая свои еще беспомощные, но уже яростные ручонки к выходу — из дома. Вместе с чувством крыши над головой возникает тяга — к двери. Что там, за ней? Пока мы учимся ходить внутри дома, мы все еще не родились. Наш первый крик, когда мы спотыкаемся неумелыми ножонками о камни вне дома, — это подлинный крик рождения. Характер проверяется там, где родные стены уже не защищают. Тяга из дома вовсе не означает ненависти к дому. Эта тяга — желание испытать себя в схватке с огромным неизвестным миром, а такое желание выше простого любопытства: оно — основа мятущегося человеческого духа, ибо духу тесны любые стены. Тезис «мой дом — моя крепость» — символ слабости духа. Дух сам по себе крепость, если даже не обнесен никакими стенами. Без уважения к дому нет человека. Но нет человека и нет писателя без тяги — из дому. Жизнь подсовывает другие дома, иногда даже прикидывающиеся родными, дома, всасывающие внутрь, как трясина, дома, похожие на колыбели, убаюкивающие совесть. Но настоящий человек, настоящий писатель-мучительно рвется к единственному комфорту — к жесткому нищему комфорту свободы. Разве не любил Лев Толстой Ясную Поляну? Но когда он почувствовал в своем доме нечто сковывающее, опутывающее его, он бросился к двери, за которой была неизвестность и свобода хотя бы смерти. Джек Лондон искусственно пытался создать свободу вну три строившегося им в Лунной Долине «Дома Волка», но, может быть, он сам его поджег, чувствуя, как давят каменные стены, и страдая ностальгией не по дому, а по юношеской бездомности? Ностальгия по бездомности неоскорбительна и для отеческого дома — в ней тоска по слиянию с человечеством, где бездомны столькие люди, где бездомны справедливость, совесть, равенство, братство, свобода. Александр Блок сам вызывал на себя удары судьбы: «Пускай я умру под забором, как пес!» Маяковский, гневно отвергая «позорное благоразумие», гордо говорил:
Мне и рубля
не накопили строчки.
Краснодеревщики
не слали мебель на дом,
и, кроме свежевымытой сорочки,
скажу по совести —
мне ничего не надо.
Высокая бездомность духа, восстающая против красиво меблированной бездуховности, — не это ли отеческий дом искусства? Бездомность — это человеческое горе, но только в глазах, затянутых жиром, горе — позорно. Об этом с очистительным покаянием точно сказал Пастернак:
И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча,
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.
Одна великая женщина, может быть, самая великая женщина из всех живших когда-нибудь на свете, с отчаянной яростью вырыдала:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст...
Имя этой женщины — Марина Цветаева.
Домоненавистница? Храмоненавистница? Марина Цветаева... Уж она ли не любила своего отеческого дома, где она помнила до самой смерти каждую шероховатость на стене, каждую трещинку на потолке. Но в этом доме, в спальне ее матери, висела картина, изображавшая дуэль Пушкина. «Первое, что я узнала о Пушкине, — это то, что его убили... Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот... Так с трех лет я шердо узнала, что у поэта есть живот... С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу — в слове «живот» для меня что-то священное, даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили». Так внутри даже любимого отеческого дома, внутри трехлетней девочки возникло чувство бездомности. Пушкин ушел в смерть — в невозвратимую, страшную вечную бездомность, и для того, чтобы ощутить себя сестрой ему, надо было эту бездомность ощутить самой. Потом, на чужбине, корчась от тоски по родине и даже пытаясь издеваться над этой тоской, Цветаева прохрипит, как «раненое животное, кем-то раненное в живот»:
Тоска по родине!
Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма...
Она даже с рычанием оскалит зубы на свой родной язык, который так обожала, который так умела нежно и яростно мять своими рабочими руками, руками гончара слова:
Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Не понимаемой быть встречным!
Дальше мы снова натыкаемся на уже процитированные «домоненавистнические » слова:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст...
Затем следует еще более отчужденное, надменное:
И всё — равно, и всё — едино...
И вдруг попытка издевательства над тоской по родине беспомощно обрывается, заканчиваясь гениальным по своей глубине выдохом, переворачивающим весь смысл

