генералитета и духовенства обратились к особе старца, который вот уже много лет держал в своих натруженных руках штурвал государства. Что делать? Что предпринять?
И тогда все увидали, как из бледных губ исторического мужа героически, исподволь высовывается узкий старческий язык. Канцлер облизнулся! Облизнулся государственный канцлер!
Еще какое-то время совет боролся с оцепенением, но в конце концов высунулись языки министров, а вслед за ними и языки епископов... языки графинь и маркграфинь... и все облизнулись от одного до другого конца стола при загадочном сиянье хрусталя, а зеркала повторили этот акт до бесконечности, топя его в своих перспективах.
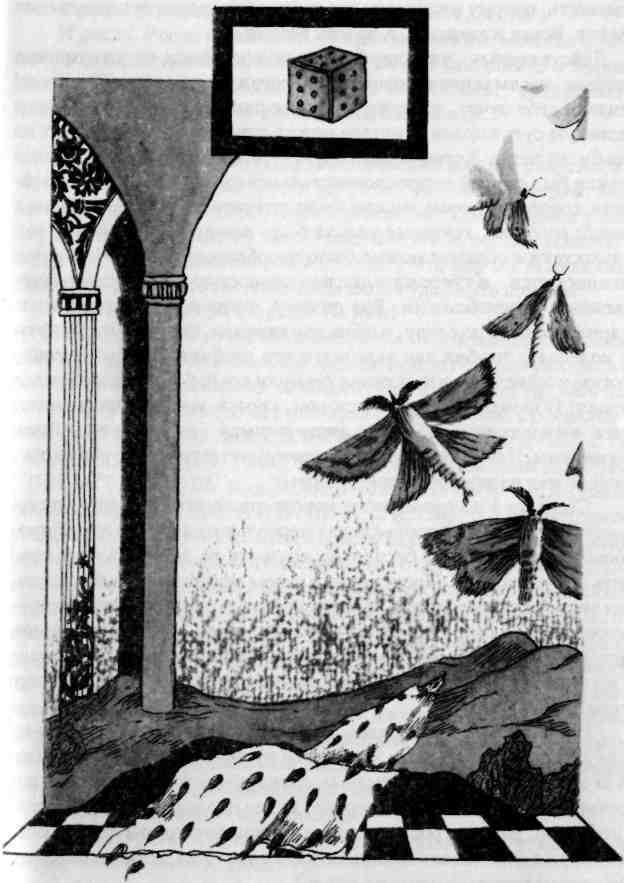
Тогда взбешенный король, видя, что он ничего не может себе позволить, потому что за ним все повторяют, резко отпихнул стол и встал. Встал и канцлер. А за ним встали все.
Действительно, канцлер больше не колебался, он уже принял решение, неслыханная смелость которого в прах разбивала этикет! Отдавая себе отчет, что уже ничто не сможет скрыть от Ренаты истинную суть короля, канцлер решил открыто бросить банкет на борьбу за честь Короны. Да, другого выхода не было — банкет должен был со всей непреклонностью повторять не только те действия короля, которые можно было повторить, но
Сидевший во главе стола король рванулся со своего места! Рванулся и банкет! Король сделал несколько шагов. То же и пировавшие. Король начал бесцельно кружить по залу. Начали кружить и пировавшие. И круженье в своем монотонном и бесконечном вихре достигало таких головокружительных вершин архикружения, что Гнуло, охваченный неожиданным головокруженьем, зарычал и с глазами, налитыми кровью, бросился на эрцгерцогиню и, не зная, что делать, начал методично ее душить на глазах всего двора!
Ни минуты не колеблясь, кормчий государства бросился на первую попавшуюся даму и начал ее душить — все гости последовали его примеру — в то время как архидушительство, отраженное бесчисленным множеством зеркал, зияло изо всех бесконечностей и все росло, росло, и росло, пока не придушило хрипы дам... Тогда банкет уже окончательно порвал последние нити, соединявшие его с обычным миром, и закусил удила!
Эрцгерцогиня — мертвая — тихо оползла на землю. Оползали задушенные дамы. И недвижность, отвратительная недвижность, онемевшая, усиленная зеркалами, стала расти, расти...
И росла. Росла неуклонно. И становилась все мощнее и мощнее, в океанах тишины, в беспредельности молчания, и царила, она, одна архинедвижность, которая спустилась, воцарилась и царила... и царствование ее было безраздельным...
Тогда король обратился в бегство.
Махнув руками, Гнуло архипаническим жестом схватился за задницу и, недолго думая, стал удирать... он бежал к дверям, лишь бы быть подальше от этого Архикоролевства. Собравшиеся увидели, что король бежит от них... еще минута и король убежит! И смотрели на это ошеломленные, потому что короля нельзя было удержать... Да и кто бы осмелился силой удержать короля?
— За ним, — рявкнул старец. — За ним!
И холодное дуновение ночи овеяло щеки сановников, высыпавших на площадь перед замком. Король бежал посреди улицы, а на расстоянии нескольких шагов за ним гнался канцлер, гнались банкет и бал. И вот архигений этого архистатиста снова проявился во всей своей архисиле — ибо ПОЗОРНОЕ БЕГСТВО КОРОЛЯ СТАНОВИЛОСЬ КАКОЙ-ТО АТАКОЙ и уже нельзя было разобрать, УБЕГАЕТ КОРОЛЬ или ВОЗГЛАВЛЯЕТ УСТРЕМЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ БАНКЕТА В ПРОСТРАНСТВО! О летящие, шелестящие в бешеной гонке ленты и ордена послов, фиолет епископов, министерские фраки и бальные туалеты, о галоп, архигалоп стольких вельмож! Никогда ничего подобного не видывали глаза общества. Магнаты, владельцы громадных земельных поместий, отпрыски самых блестящих фамилий галопировали рядом с офицерами генерального штаба, галоп которых вторил аллюру всемогущих министров, гонке маршалов, камергеров, галопу разогнавшихся наизнатнейших дам двора! О гонка, архигонка маршалов, камергеров, гонка министров, галоп послов в сумраке ночи, в отсвете фонарей, под сводом небес! Из замка пальнули орудия. И король предпринял фарс-бросок!
— Вперед! — крикнул он. — Вперед!
И во главе своей архикоманды архикороль приступил к архифорсированию ночной тьмы!
Воспоминания Стефана Чарнецкого
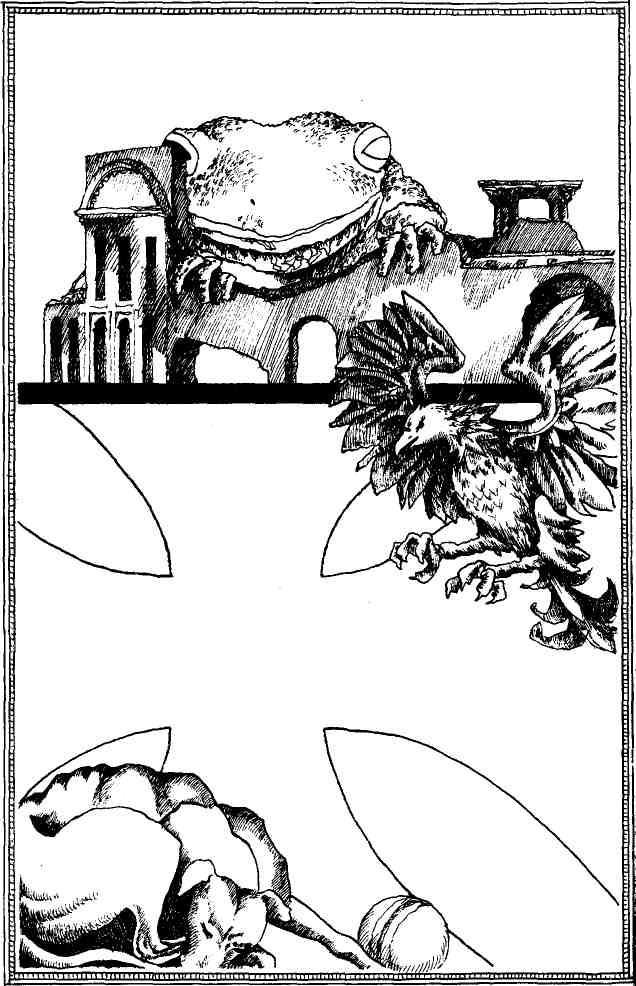 1
1Я родился и воспитывался в благородном доме. Детство мое! С волнением прибегаю к тебе в своих мыслях. Вижу отца моего, мужчину видного, статного, в лице которого все — взгляд, черты, волосы с проседью — все было выражением совершенной, высокой породы. Вижу и тебя, мама, в строгой черни одежд, украшенную лишь парой старинных бриллиантовых серег. Вижу и себя, малое, серьезное, задумчивое дитя, и слезы навертываются на глаза, когда я думаю о разрушенных надеждах. — Возможно, единственным изъяном нашей семейной жизни было то, что отец ненавидел мать. Ненавидел — это плохо сказано; скорее, не выносил, а почему — я никогда не мог ответить на этот вопрос, и здесь начинается тайна, в тумане которой я уже в зрелые годы пришел к моральной катастрофе. Ибо кто я сегодня? Прохиндей, или вернее — моральный банкрот. Что, например, я делаю? Целую даме руку, а сам сильно ее слюнявлю, после чего быстро вынимаю носовой платок: ах, извините — говорю я и вытираю платком.
Я быстро заметил, что отец как огня избегал прикосновения матери. Даже более того — избегал ее взгляда, а, разговаривая, чаще всего смотрел в сторону или разглядывал ногти. Нет ничего более грустного, чем этот потупленный взгляд отца. Иногда же он смотрел на нее искоса, с выражением безмерного отвращения. Мне это было непонятным, поскольку по отношению к матери, хоть она и толстела сверх всякой меры и расплывалась во все стороны, я не ощущал ни малейшей неприязни, любил прижаться к ней и положить голову ей на колени. — Как же при всем при этом объяснить факт моего существования, откуда я взялся? Думаю, что сотворили меня в известном смысле насильно, стиснув зубы, вопреки естественным рефлексам, словом, допускаю, что мой отец в течение какого-то времени во имя исполнения супружеской обязанности героически боролся с отвращением (ибо свое мужское достоинство он ставил превыше всего) и что плодом его героизма стал я — малое дитя.
После этого сверхчеловеческого и, по всем вероятиям, единовременного усилия отвращение взорвалось в нем со стихийной силой. Однажды я подслушал, как он, хрустя суставами пальцев, кричал на мать: «Ты лысеешь! Скоро ты станешь совсем как колено лысая! Лысая женщина — ты хоть понимаешь, что это значит для меня? Женщина — и лысая! Женская лысина... парик... нет, я этого не перенесу!»
И добавил спокойнее, голосом тихим, полным муки: «Боже, как же ты ужасна. Ты не представляешь, как ты ужасна. Впрочем, лысина — это деталь, нос — тоже, та или иная отдельно взятая деталь может быть ужасной, такое случается и в арийской расе. Но ты ужасна в целом, ты переполнена мерзостью с головы до пят, ты сама мерзость... Ну хоть бы что-нибудь в тебе было свободно от этого корня мерзости, тогда у меня было бы, по крайней мере, за что зацепиться, хоть какая-то основа, и, клянусь, тогда бы я на этом сосредоточил все чувства, в которых присягнул тебе перед алтарем. О, Боже!»
Я никак не мог взять в толк, чем же это лысина матери хуже лысины отца? А зубы у матери были даже лучше, был у нее один зуб с золотой пломбой... И почему мать со своей стороны не брезговала отцом, а

