Птичий народ
«Тан-та-ли-ли, ин-па-па-па, ич-яла, ич-яла».

Дерево огромно, его темная листва металлически позванивает и посверкивает под вечерним ветром; небесный свет окружает его крону широким желтым ореолом, вблизи ярким, в отдалении мягко угасающим. Дерево стоит у обочины шоссе, ведущего в Хакону, возле кинотеатра, названного в честь Чарли Чаплина, на самом краю земли, затопляемой весенними паводками. Оно очень старое, это дерево, очень высокое, и крона его необъятна. Находятся люди, утверждающие, что его посадили по приказу императора Максимилиана. Это эвкалипт с темными листьями в форме кинжальных лезвий и с громадным стволом, от которого кора отваливается целыми пластинами. Ветви далеко отходят от ствола, и легкие листья под вечерним ветром вращаются, словно корабельные винты, а их изнанка металлически поблескивает. Днем они шумят в солнечном свете, хотя порой их заглушают моторы грузовиков. Шумят, как вода. Будто дождь идет поблизости.
Под кроной пролегло широкое шоссе, ведущее из Хаконы на запад через поля, где работают женщины и дети, но древо-великан царит над округой, в центре своей маленькой вселенной, оно созерцает лишь просторы полей да вершины далеких вулканов.
К нему-то и слетается во множестве птичий народец. В пять вечера, когда солнце клонится к вулканам, свет, струящийся с небес, изменяется тоже. Словно все накрывает полупрозрачная вуаль, почти невидимая, но ощутимая, эта легкая завеса ограждает землю от дневного жара. Она неподвижна. Люди и вещи цепенеют, обращаются внутрь себя, вал зноя нависает над миром, вот-вот накроет, и движения замирают в неустойчивом равновесии, словно вот-вот пойдут вспять.
А птицам только того и надо. Ведь в эту пору стихает ветер в древесных ветвях, не слышно шума дождя, солнце не так печет и ход дневных часов перестает давить на виски.
И они прилетают, вот все уже слетелись. Откуда? Трудно вообразить. Может, с засеянных полей, со стороны каналов или с тех земель, что южнее, от Чавинды либо Сауайо. Или с просторного зеленого мыса Эль-Платаналь у подножия горы Беаты.
Они летят тяжело, бесформенными стаями в два-три десятка, совсем не так, как безукоризненные эскадрильи диких гусей, и даже не как скворцы, которые при полете покачиваются в воздухе и вибрируют, словно рои насекомых. Нет, эти летят без ясной цели, подобно всем грабителям, каковыми они, по сути, и являются, не помышляя ни о порядке, ни о старшинстве, как вздумается, с пронзительно резкими криками. Их пиратские шайки со всех сторон слетаются сюда, быстро пересекая от горизонта видимый глазу кусок светлого неба. Они черны, того странного черного цвета, что с сиреневым отливом; по небу они скользят, широко взмахивая большими крыльями, как напуганные рыбы в водоеме, удирающие от опасности. Да, в этом поспешном бегстве чувствуется страх, каждая стая поспешает к этому дереву, будто здесь приют спасения, и, выпорхнув неведомо откуда, из иных лесов и крон, налетает разом, пронзительно вопя.
И все они стремятся к огромному неподвижному эвкалипту, растущему на обочине Хаконского шоссе.
Одна за другой стаи рассаживаются на ветвях высоко над землей. Вот уже их столько, что на подлете они волей-неволей объединяются и долго кружат вокруг дерева, образуя вихрь, бесконечно ветвящийся в небе и такой плотный, что хлопанье крыльев подчас заглушает шум моторов на шоссе и прочие звуки: журчанье воды, вздохи ветра, скрежещущий шелест листвы гигантского эвкалипта. От гортанного клекота и криков трескается небесная твердь и качается земная; чудится, будто сама крона истошно вопит, ветви бранятся меж собой, передразнивают, спорят, ссорятся, улюлюкают, перемывая друг дружке кости, а гул птичьего вихря все крепнет, ширится, грозя все смести, опустошив пространство вокруг невероятного древесного великана.
Долго ли такое длится? В этом чернокрылом торнадо времени не существует. Его течение замерло от пронзительных воплей, они остановили само движение света.
Солнце зависло, как приклеенное, на западе, над цепью вершин, над вулканом Патамбан, над Серрос Куатес, «горами-близнецами», так оно и стоит, пылая и, должно быть, обрушивая снопы искр прямо в Тихий океан. Кажется, ему больше не стронуться с места, словно птичий вихрь похитил у него всю силу, будто эта колготня черных стай отменила ход вещей и движение мысли, все остановила на земле и на небе.
Вот и Хаконская дорога странно пуста. И вся земля в закатном желтоватом сиянии кажется необитаемой. Обширные поля, улочки города, пустыри, зубчатые силуэты вулканов — все безжизненно.
Еще подлетают последние стаи, кружатся над деревом, ища, куда бы пристроиться. Но все уже занято, от верхушки до комля, от хрупких кончиков веток до их мощного основания, отходящего от огромного ствола. Тысячи черных птиц скопились тут в такой давке, что новая садится не раньше, чем другая, вытесненная соседками, взлетит, громко вопя от возмущения. Сколько их? Десять тысяч, пятнадцать, больше? Гигант дрожит и шатается под их весом, теряет листья. Что ж, он — средоточие всего сущего, в том нет сомнения, раз на нем разместился город птиц, целый народ; он — столп, поддерживающий здешние небеса. Вокруг него приютились людские жилища, вулканы, дороги, плантации помидоров и кукурузы, а еще дальше — совсем уж пустынные места, кедровые и сосновые леса, озера, обдуваемые ветрами высокогорья. Но все это лишилось смысла и силы, замерло, быть может, в ожидании, ибо сейчас птицы — единственные повелители вселенной.
В небе даже их самих уже словно бы нет, лишь мелькание белых просветов, мечущихся в толще черного вихря слепых пятен пространства, — знак того, что танец не закончен, да длинные медленные ленты на краях птичьей воронки продолжают неспешное кружение вокруг эвкалипта — вот-вот развяжется пуп небес.
И тут вдруг гомон их голосов взмывает ввысь еще оглушительнее. Все орут разом, каждая на своем. Звуки яростные, жесткие, они теснят, бьют, отпихивают друг друга. Земля меж тем коснеет в густом молчании, солнце как гвоздями прибито над вулканами в недвижном небе, только где-то на дикой высоте ветер рвет и комкает одинокое облако. Все замерло здесь — и во всех пределах земных, вплоть до далекого Тихого океана, чьи волны тоже застыли.
Крики птиц так громки, что не расслышать ничего другого. В безмерном неистовстве они вещают о себе, их речи достигают края земли и неба, ибо в сих пределах только они живы, только они властвуют. Крона дерева пухнет от их голосов, разрастается, заполняя все пустоты, улицы города, скалистые ущелья…
Но тут солнце, спохватившись, вновь пускается в путь к западу от вулкана Патамбан. Теперь это странное красное пятно, оно растет, меняя облик неба, мнет его, как шкуру зверя. Все, что застыло, оглушенное черным ураганом, оживает. Вдруг появляются люди, вон они стоят на межах своих полей, на плоских крышах домов или на улочках, вдоль которых неимоверно вытягиваются их тени. По шоссе снова снуют, поднимая пыль, тяжелые грузовики с фруктами, бутылками пепси и разным железом. Они катят навстречу ночи к большим вулканам, в сторону Сакапу, Кироги, Уруапана.
Дерево огромно, оно одиноко стоит у дороги, тысячи птиц в его листве переговариваются, толкаются и бранятся, прежде чем заснуть. Воздух прозрачен, небо чуть темнеет на востоке, и уже заметна первая звездочка, мерцающая точка в ночной голубизне. Умиротворение кружит голову, он куда как крепок, этот хмель, а все из-за дерева, где копошится птичий народец.
Да, хмель сквозит в голосах и жестах, но есть и что-то еще, таинственное, неизгладимое, оставленное в памяти этим крылатым вихрем, что на миг остановил движение мироздания.
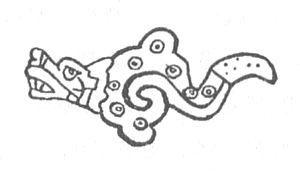
Тцакари, черный певчий дрозд, что пьянеет, наклевавшись винограда, и, как по волшебству

