— А для кольца велик, — добавляет Видок. — То есть для кольца взрослого человека.
Он подносит блестящий ободок поближе к свече. По его губам пробегает улыбка.
— А вот в качестве детского кольца, — провозглашает он, — подойдет как нельзя лучше.
И словно по мановению волшебной палочки, все отметины и вмятины на поверхности кольца обретают свое значение.
— Детское зубное кольцо, — говорю я.
— И стоит изрядно, — заключает Видок, катая кольцо по своей широкой ладони.
Золотистые брови баронессы изгибаются высокими дугами.
— Если вы о том, что кольцо из чистого золота, то вы правы. Однако своей ценностью кольцо прежде всего обязано его первому обладателю.
— Младенцу? — спрашивает он.
— В то время он был младенцем.
— И вы его знали?
— Видела пару раз. Я водила некоторое знакомство с его матерью.
— Она, верно, была весьма обеспеченной особой, если давала ребенку грызть кусок золота.
Баронесса молчит. А когда пауза заканчивается, ее голос звучит по-новому, с налетом таинственности.
— Она и в самом деле была, как вы выражаетесь, обеспечена. Какое-то время. Кольцо, однако, подарила ребенку бабушка.
Наступает вторая пауза, более долгая — она длится почти полминуты. Баронесса нарушает ее сама: выдвинув ящик антикварного шкафа, она извлекает древний театральный бинокль.
— Вот, — произносит она, протягивая бинокль Видоку. — На кольце выгравирована миниатюрная эмблема бабушки ребенка. Посмотрите сами.
Бинокль, слишком маленький по сравнению с его бычьей головой, придает ему, когда он склоняется над столом, вид обеспокоенного химика. Несколько секунд он пристально вглядывается. Его лоб рассекает глубокая морщина.
— Там должен быть двуглавый орел, — подсказывает баронесса. — Но не такой, как на эмблеме синьора Бонапарта. Теперь разглядели, месье?
Стискивая в пальцах кольцо, Видок зачарованно кивает.
— Вы, наверное, бывали там? — спрашивает она.
— Я провел там несколько недель. Сражался с кирасирами Кински. Стал неплохо разбираться в их символике.
— Кински? — заикаясь, вставляю я. — Но ведь дело было в Австрии.
— Разумеется, — любезно соглашается баронесса. — Перед нами геральдический символ императрицы Марии Терезии.
— Взгляните сами, — произносит Видок.
Я прижимаю бинокль к переносице: миниатюрная вселенная кольца рывком приближается. Двуглавый орел… тевтонский крест…
— И имя ребенка, — говорит баронесса. — Его можно разобрать.
И действительно, с внутренней стороны кольца просматриваются буквы. Некоторые совсем стерлись, но осталось достаточно, чтобы разобрать изначальную гравировку.
Л И ШАЛЬ
— Луи Шарль, — шепчу я, и звуки как будто бы проливаются на стол и отражаются от него именем. — Дофин.
Из-за моего плеча доносится голос баронессы. В нем отчетливо слышны иронические нотки.
— Пожалуй, после стольких лет следует вернуть в обиход слово «король».
И, словно отвечая на реплику баронессы, кольцо уплывает из поля зрения. Оторвавшись от стола, я вижу его на ладони Видока; в следующую секунду тот швыряет кольцо в ближайшую стенку. Судьбу кольца, по-видимому, разделяют и остатки его образа, потому что слова, соскользнувшие с уст Видока, никак не могут быть произнесены в одном помещении с синей атласной скамеечкой.
— Дерьмо!
— В каком-то смысле, — соглашается баронесса.
Глава 11
ИСЧЕЗНУВШИЙ ДОФИН
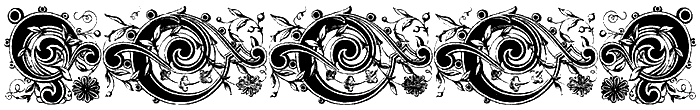
Если баронесса и извинила выходку Видока, то она просто-напросто действовала в духе времени.
Видите ли, первые дни Реставрации по определению — время великой забывчивости. Нам предлагается забыть, что мир перевернулся, что король с королевой кончили жизнь под ножом Мстителя, что по площади Революции текли реки крови, а богач и священник трепетали перед ремесленником и крестьянином.
Нам предлагается забыть, что из пепла этого пожара восстал выскочка, который перевернул полконтинента, заставил европейских монархов дрожать от одного звука его имени и стоил Франции едва ли не миллиона жизней.
Мы должны забыть — сделать вид, будто ничего не было, — все, что происходило между 1789 и 1815 годами, между Бастилией и Ватерлоо. К чему копить обиды? Пусть начнется Реставрация.
И вот что интересно: кое-что забыть очень легко. За какие-то пару лет мы выбросили почти все обеденные тарелки с монограммой Бонапарта, избавились от изображений двуглавого орла. Мы снесли статуи императора, стерли со стен Лувра буквы «Н», закрасили «императорский» и написали поверх «королевский». Мы приветствовали нового короля с тем же пылом, с каким когда-то проклинали старого.
В каком-то смысле эта забывчивость стала благословением, потому как жить в исторические времена — все равно, что не жить вовсе. Лучше притвориться, что ничего не было.
Только это не получается, сколько ни старайся. В конечном итоге (и теперь вы, конечно, уже это поняли), забвения нет. История затаивается, но всегда поднимает голову.
И вот в момент, когда мы меньше всего этого ожидаем, нас посещает призрак ребенка. Мальчика, которого мы хотели бы забыть сильнее, чем кого-либо другого.
Его зовут Луи Шарль, герцог Нормандский. Он словно принц из сказки: красивый, с волосами как лен, с сияющими глазами. Его крестили в соборе Нотр-Дам. У него была целая армия слуг: горничные, консьержи, портье, мальчики на посылках, парикмахеры, слуги, которые начищали столовое серебро, и другие, которые стирали белье; имелся даже личный качальщик кровати. Принц бегал по апельсиновым рощам и в любую минуту по его зову приводили черного пони, одного из восьми. Он разъезжал в каретах, а дворцы были его игровыми площадками.
Ни о чем этом он не просил, просто такая судьба выпала ему при рождении, но революционеры, в своей мудрости, все равно сочли его виновным. Виновным в том, что жил роскошно, в то время как множество французских детей страдали. Значит, надо заставить страдать и его.
Его посадили в крепость Тампль. День и ночь его караулила стража. Его лишили титула и достоинства принца, били и морили голодом. Маленького узника не осмеливались казнить, как казнили его родителей (мир все еще следил за происходящим). Революционеры просто создали условия, при которых он должен был умереть, и спокойно наблюдали, как он умирает. Медленно, в грязи и муках, отрезанный от

