первым, с коего началась проповедь, в едином толкованье насторожило всех, кто был хоть мало-мальски сведущ в богословии. Бедреддин знал, что кадий Куббеддин вертит своей выей вслед за властителем на престоле, как подсолнух за солнцем. Но столь низкого пресмыкательства он все же от него не ожидал. Неужто Куббеддин всерьез предлагает не только рабам государевым, состоящим у него на службе, но и свободным общинникам и даже улемам, склонявшимся только пред повелениями Аллаха, кидаться носом в землю перед султаном? Да ведь это было бы равносильно открытому кощунству!
Но старая лиса Куббеддин был не столь прост, чтобы дать себя поймать на слове, хотя мысль его конечно же была кощунственна в своей верноподданности.
— Подобно тому, как простираются ниц пред подателем всех благ рабы его, — заключил он свою проповедь, — надлежит слагать своекорыстные вожделения и частные заботы свои к стопам законного государя, дабы с честью выполнить волю его, ибо власть его, как гласит Коран, от Аллаха, милостивого и милосердного…
Из мечети возвращались молча. Толпа почтительно расступалась перед ними: за целый год не смогли привыкнуть горожане к тому, как ходят по улицам споспешники Бедреддина. Одеты подобно дервишам — в серых суконных плащах, в простых стеганых халатах. Отвечают на приветствия неторопливо, но кратко, как улемы. Шагают решительно и споро, как воины. И в то же время что-то отличало их от тех, и от других, и от третьих. Маленькая кучка людей, сплоченных каким-то общим делом, устремленная к неведомой горожанам цели, сосредоточенная на какой-то единой мысли.
Шейх тотчас поднялся к себе. Ученики остались во дворе. В ту пятницу десятого раджаба восемьсот восемнадцатого года, если считать со дня хиджры — переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину, или четырнадцатого сентября тысяча четыреста пятнадцатого года, как считали френки, латиняне, со дня рождества Христова, день выдался погожий. Ветерок с Енишехирского перевала рассеял на рассвете туман, отогнав на север гнилостное дыхание приозерных топей. На синем небе — ни облачка. Сладкоголосая вода журча ниспадала из каменных пастей, располагая к размышлению. Жужжали пчелы, торопясь добрать последние взятки с покорно склонивших головы осенних роз.
Все вокруг дышало покоем. Не было его только в сердцах Бедреддиновых учеников. Долго прогуливались они молча, собираясь с мыслями и успокаиваясь, покуда Абдуселям не проговорил печально:
— Выходит, правда, вслед за непокорным беем Карамана настал черед измирского владыки удалого Джунайда.
Подобно тому, как Тверь соперничала некогда с Москвой в борьбе за господство над Русью, Караман был главным противником Османов в борьбе за власть над удельными беями Малой Азии. Покуда наследники престола дрались между собой, властитель Карамана Мехмед-бей Второй взял Бурсу, дочиста выгреб все, что удалось чудом сберечь от Тимура, и в отместку за былые униженья повелел вытащить из могилы и подвергнуть поруганью прах умершего в тимуровском плену ненавистного ему султана Баязида. Вот почему, едва усевшись на престол, сын Баязида Мехмед Челеби отправился походом на Караман. Под Коньей разбил войско караманского бея и вынудил его отдать во владенья Османов еще пять городов.
Недавно бывалый караванщик из Халеба принес в обитель весть, будто подобная участь постигла и другого, не столь могущественного, но славного удалью повелителя Измира Джунайда, который попытался отложиться от Османов. А на его место посажен был слуга дома Османов — Александр, сын последнего царя Болгарии Шишмана, принявший ислам под именем Сулеймана и прославившийся свирепостью, с которой он, подобно многим ренегатам, выслуживал доверие поработителей своей родины.
Абдуселям, грек по рождению, провел свою молодость в Измире, на островах Хиос и Крит, словом, в Приэгейском краю. И его печаль понять было можно. Однако Ахи Махмуд спросил его с усмешкой:
— Тебя печалит плененье Джунайда-бея?
— Нет. Новая победа Мехмеда Челеби. Послушать кадия, так он едва ли не посланник божий, прости меня Аллах!
— Хорош законный государь! — не выдержал Маджнун. — Сжил братьев…
Ахи Махмуд предостерегающе поднял руку:
— Поберегись, Маджнун, здесь и у стен есть уши! Понятно, ты хотел сказать, что всякий государь законен, ежли он сам блюдет закон, но это ведомо всем нам. Что убежденных убеждать? Подумаем-ка лучше, по какой причине с уст кадия слетело слово.
— Какое слово?
— То самое, Маджнун, что сердце тебе невольно подсказало. Но старая лиса не сердцем говорит, у нее любое слово на учете. Ежли, к примеру, скажет «бесспорно», то, значит, кто-то сие оспорил…
— Верно, верно! — отозвался Акшемседдин, теребя каштановую бородку. — Неужто вы запамятовали? Темный слух прошел, будто из Тимурова плена явился еще один наследник султана Баязида. Не он ли заставил кадия обронить словцо «законный»?
— Вот и поймали мы лису за хвост! — припечатал Ахи Махмуд. — Не зря говорено, что хитрость — ум глупцов.
Абдуселям недоверчиво покачал головой:
— Не слишком ли быстро сочли вы себя мудрецами? Глядите, как бы схваченная за хвост лиса не оттяпала вам руку…
Конский топот прервал его. Слышно было, как за воротами всадник соскочил на землю, гремя уздечкой, привязал повод к коновязи, что-то сказал привратнику и спорым шагом, на ходу сбивая кнутовищем пыль с сапог, вошел во двор. Приземистый, широкогрудый, в коротком халате, с палашом у пояса, он походил на воина.
— Гюндюз! — воскликнул Ахи Махмуд.
Пришелец замер. Улыбка осветила обветренное бритое лицо. Шагнул с протянутой рукой в сторону Ахи Махмуда, но, заметив рядом с ним других мюридов, остановился с поклоном. Будто спохватившись, спросил:
— Мне б самого! Он здесь?
— У себя. В трудах. А ты, надеюсь, с доброй вестью?
— С доброй.
— Я извещу учителя, — с готовностью отозвался Маджнун и кинулся к обители.
Гюндюз с Ахи Махмудом обнялись.
— Давненько не видались.
— Давненько. Как Бёкрлюдже?
— Слава Аллаху! И вам того желает.
— Далеко он?
— Какие вести?
— Погодите, братья, дайте дух перевести с дороги…
Тут Гюндюз заметил в дверях фигуру учителя, сложил на груди руки, приблизился к нему с поклоном.
— Мир тебе, учитель! Бёрклюдже Мустафа послал сказать: он в трех часах отсюда. С караваном и всем, что было ему доверено.
Бедреддин быстро подошел к посланцу, обнял его за плечи.
— Спасибо тебе, Гюндюз! Радостней вести никто нам принести не мог. — Он обернулся к ученикам — Ахи Махмуд! Джаффар! Касым! Скорее, возьмите людей, езжайте навстречу. Пускай не мешкают. Заждались мы!..
ГЛАВА ВТОРАЯ
Лекарство твое в тебе
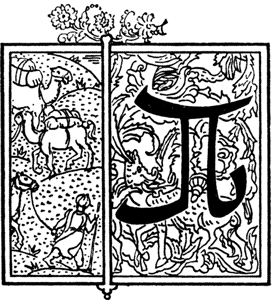
Подъему, казалось, не будет конца — дорога ведет в небо. Но после полудня за перевалом, далеко

