Все трое перешли дорогу.
— Ну, спасибо, Черный. Люблю я спорт. Эх, если бы нам еще футболом заняться! Вот это игра. Свою бы нам команду из хороших простых парней сколотить! Как думаешь?
— Да я уж думал. Ты приходи к нам, — сказал Колька. — Царевская, дом Ковырзина, за Морозовской, в овраге. Приходи завтра под вечерок.
— Непременно. Часов в шесть-семь. И мячик прихвачу.
На другой день к вечеру собрался дождь, прокатился серебрушками по крыше, прогнал с площадки Кольку и его друзей в дровяник. Тут были и Аркаша со своей неизменной Женей, и Донька Калимахин с двумя своими приятелями — Тимоней и Вечкой.
Братья-близнецы Сорвачевы настолько походили друг на друга, что Женя, поглядывая на них, никак не могла удержать улыбки. Оба коренастые, с короткими, чуть кривыми ногами, белобрысые. Только Тимоня — густо веснушчатый, а у Вечки, когда он краснел, выступали белыми пятнышками на щеках и на лбу следы оспы. Они стеснялись, наверное, потому, что впервые попали в общество гимназисток и гимназистов, и держались ближе к слесарю железнодорожного депо Агафангелу Шалгину, кудлатому, молчаливому и спокойному парню с очень серьезным неулыбчивым лицом.
Пришел и Митя Дудников. Под мышкой он держал толстый сверток в оберточной бумаге, перевязанный голубой ленточкой. Явился в форменной тужурке с твердым крахмальным подворотничком. Хорошо разглаженные брюки, до зеркального блеска начищенные ботинки и фуражка с эмблемой почтового ведомства произвели впечатление. Обычно Митя ходил простецки — темная или серая косоворотка, черные брюки и сапоги. В парадной форме его увидели впервые.
— Митя, Митя-то какой сегодня! — закричала Катя и захлопала в ладоши: — Хорош!
— Не к губернатору ли, Дудников, собрался? — засмеялся Донька Калимахин. — С визитом?
Здороваясь, Митя, как всегда, улыбался своей мягкой застенчивой улыбкой, но вид у него был загадочный и немного печальный. Он присел на край Геркиного топчана и положил рядом с собой аккуратный сверток.
— А что тут такое? — поинтересовался Герка.
— А это… Это мой подарок. Тебе, Коле, Кате, — ответил Митя и стал развязывать сверток.
Герка получил томик Брет-Гарта и, обрадованный, убежал домой. Кольке Митя вручил три тома Джека Лондона, а Катя получила полное собрание сочинений Тургенева.
— Митя, мне, право, неловко получать такой подарок. Ведь я знаю, как ты бережешь свои книги.
— Ну, какая тут неловкость. Я давно хотел что-нибудь… своим друзьям… А больше нечего.
Все сидели в дровянике у открытой двери, ждали Федоса. Но он что-то запаздывал.
Вдруг над забором появилось доброе круглое лицо высоченного парня, и Колька с радостью узнал Печенега.
С Печенегом Колька познакомился недавно. Чтобы заработать себе на спортивную форму, в первый же день каникул Колька подался на пристань и устроился грузчиком. Как ни крепок, ни жилист он был, а заныла поясница, заболели косточки.
Однажды тяжелый ящик так придавил плечи, что у Кольки подкосились ноги. Вот-вот упадет… Ему помогли.
— Э, товарищ, да мы с тобой знакомы! Не тебя ли я весной из воды вытащил?
Колька узнал этого широкоплечего, с хрипотцой в голосе парня. Как-то накануне вербного воскресенья от суеты в квартире, от весеннего неба над городом и отчаянного чириканья опьяневших от весны воробьев Кольке стало так легко и весело, так много силы он почувствовал в своем легком теле, что усидеть дома было никак невозможно. Нужно было двигаться и обязательно сделать что-нибудь особенное.
«Вот бы наломать вербы и принести матери… и Наташе».
Почему-то злость на Наташу долго не удерживалась. Уже через день после бала он посмеивался над своей по-детски выраженной ревностью. Потом начинал думать: а, все равно, нравится и такая, и ничего тут не поделаешь.
Через реку не пускали. Лед уже отъело от берегов, и даже была первая подвижка.
Колька кое-как перебрался через полынью. Пошел по пупырчатому, изъеденному водой льду, и свистки городовых, ругань сторожей за его спиной только веселили его. Возле Дымкова он наломал охапку вербы, снова перешел через реку по льду. В двух местах были разводья, пришлось через них прыгать. Но у берега полынья стала шире. Грузчики, стоявшие на берегу, перебросили пару жердей и советовали ему кинуть свой веник в воду. Но Колька упрямо пошел по качающимся жердям, прижимая охапку вербы к груди.
У самого берега нога поскользнулась, и он потерял равновесие. Падая, услышал женский визг. Чьи-то сильные руки схватили его за ворот и подняли на воздух…
— И я тебя узнал! Честное слово, узнал. — Тебя, кажется, Афоней зовут?
— Ага. Фамилия — Печенкин. Но кличут Печенегом. Пускай — Печенег.
После работы Афоня затащил Кольку к себе. Жил он на горе, у Раздерихинского спуска, в подвале покосившегося дома.
Смотря на Печенега, на его добродушное, широкоскулое лицо в рябинках, Колька с удовольствием откусывал ломоть, намазанный толстым слоем ливерной колбасы.
Афоня улыбался:
— Ешь, питайся, силы больше будет.
— А я часто о тебе вспоминал, — признался Колька, — особенно в последнее время. — Вот, думал, такого бы силача в нашу команду!
И вот он, Печенег, явился; смущенно улыбается, возвышаясь над забором.
Вскоре подошел и Федос.
Дождик прозвенел, и солнце засияло жарко и весело. Легкий влажный пар пошел от земли, свежо и сильно запахли и трава, и листья деревьев.
В тот вечер долго играли на влажной площадке. Сначала Печенег и братья Сорвачевы заметно стеснялись в этой компании голосистых гимназисток и гимназистов. Сорвачевы льнули друг к другу и к Кольке, часто переглядывались, на шутки отвечали улыбками. И Печенега трудно было узнать: ловкий на пристани с мешками и ящиками, здесь он словно бы не знал, куда девать свои сильные руки. Он каждый раз краснел, когда не успевал ударить по мячу.
Но когда ребята усвоили главные правила игры, азарт постепенно захватил и братьев Сорвачевых, и Печенега. Сорвачевы стали покрикивать друг на друга, а к Печенегу вернулась его свободная сила и ловкость.
Митя играть наотрез отказался. Он сел на бревнышко у стены дровяника, охватил руками свои острые колени и внимательно следил за игрой. Но оживления на его лице не было.
Колька вначале поглядывал на серьезного и грустного Митю и с беспокойством думал: «Что это сегодня с ним?» Но потом игра увлекла Кольку, и он забыл о Мите.
Уже занялся и отпылал закат, светлое небо стало наливаться темнотой, проклюнулись первые дрожащие звезды, и по всей Луковицкой засветились в окнах домов желтые огоньки, а на пустыре за ковырзинским домом все еще раздавались гулкие удары по мячу.
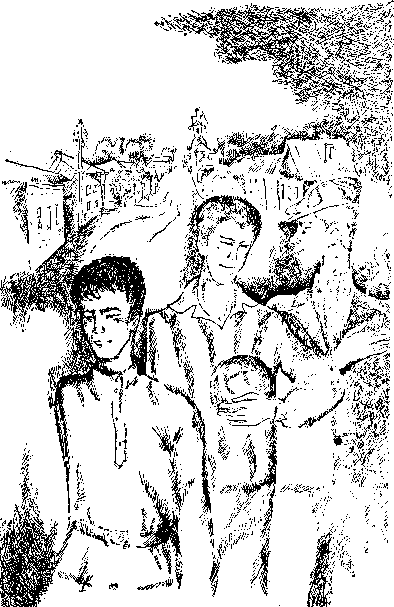
Давно бы пора расходиться по домам, но расставаться не хочется, и Федос снова и снова кидает мяч.
Вышли из Ковырзинского двора гурьбой, пошли на берег, к Александровскому саду, и долго бродили над обрывом, вдоль стен монастыря. О чем говорили? Никто не мог потом вспомнить. Братья Сорвачевы, кажется, рассказывали какую-то смешную историю про мастера. Женя Чардымова что-то напевала, Аркаша и Федос заспорили о греческой мифологии. Митя долго молчал. Но когда пошли по откосу над сверкающей рекой, он тоже оживился и стал читать стихи.
Обрывки мыслей, случайные слова, митины стихи, песни, начавшийся и тотчас же гаснущий спор, смех девушек, шутливая перебранка братьев Сорвачевых друг с другом — все это слилось вместе, перемешалось и родило простоту, свободу и большую радость. Прощались на рассвете, и еще долго махали друг другу

